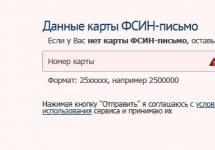Освальд Шпенглер был выдающимся немецким историком и философом, чья экспертиза и знания охватывали математику, естественные науки, теорию искусства и музыки. Основной и самой важной работой Шпенглера считается двухтомник «Закат Европы», другие его труды не пользовались популярностью за пределами Германии.
Представленная ниже статья фокусируется на смелом и неоднозначном произведении на историко-философскую тематику, коим является «Закат Европы». Краткое содержание Шпенглер изложил в написанном им же предисловии. Однако на нескольких страницах невозможно вместить весь комплекс идей и терминов, которые представляют особый интерес для современной истории.
Освальд Шпенглер
Шпенглер пережил Первую мировую войну, которая сильно повлияла на его философские взгляды и сформулированную им теорию развития культур и цивилизаций. Первая мировая война заставила пересмотреть и частично переписать второй том главной работы, которую на тот момент уже завершил Шпенглер, - «Закат Европы». Краткое содержание двухтомника, написанное им же в предисловии ко второму изданию, показывает насколько масштабные военные действия и их последствия повлияли на развитие теории Шпенглера.
Последующие труды философа фокусировались на политике, в частности на националистических и социалистических идеалах.
После прихода к власти в Германии национал-социалистической партии Гитлера нацисты сочли Шпенглера одним из сторонников и пропагандистов радикальной идеологии. Однако последующая эволюция партии и милитаристические тенденции заставили Шпенглера усомниться в будущем не только нацистов, но и Германии. В его книга «Время Решений» (или «Годы Решений»), критикующая идеологию нацизма и превосходства, была полностью изъята из печати.
«Закат Европы»
Первый независимый труд историка и философа Оскара Шпенглера является самой популярной, обсуждаемой и влиятельной его работой.
Понимание уникальности и самобытности культур является одной из основных тем работы, над которой более пяти лет трудился Освальд Шпенглер,- «Закат Европы». Краткое содержание двухтомника и написанное автором введение ко второму изданию поможет разобраться со сложно сформулированной, комплексной теорией Шпенглера.
Двухтомный трактат затрагивает множество тем и предлагает абсолютное переосмысление того, как в современном мире воспринимается история. Согласно основной теории, неправильно воспринимать развитие целого мира с точки зрения разделяя эпохи на древнюю, средневековую и новую эру. Европоцентристская шкала исторических эпох не может правильно описать появление и становление многих восточных культур.
Шпенглер, «Закат Европы». Краткое содержание по главам. Том первый
Сразу после выхода в свет книга удивила интеллектуальную общественность Германии. Одна из наиболее инновационных и провокационных работ, предлагающая аргументативный критический подход к теории развития культур, которую сформулировал О. Шпенглер, - «Закат Европы». Краткое содержание теории, входящее в авторское предисловие, практически полностью фокусируется на феномене восприятия истории с точки зрения морфологии, то есть течения и изменения.
«Закат Европы» состоит из двух томов. Первый том называется «Форма и Реальность» (или «Образ и Действительность») и состоит из шести глав, которые излагают основы теории Шпенглера. Первая глава фокусируется на математике, восприятии чисел и том, как понятие границ и бесконечности влияет на восприятие истории и развитие культур.
«Форма и Реальность» не только строит фундамент для современного изучения истории, но и предлагает новую форму ее восприятия. Согласно Шпенглеру, с ее научным мировоззрением повлияла на «натурализацию» истории. Благодаря древнегреческому познанию мира при помощи законов и правил история превратилась в науку, с чем Шпенглер категорически не согласен.

Философ настаивает на том, что история должна восприниматься «аналогово», то есть фокусироваться не на том, что уже создалось, а на том, что происходит и создается. Именно поэтому математике отведена такая важная роль в работе. Шпенглер считает, что с появлением понятия границ и бесконечности человек почувствовал важность четких дат и структур.
«Закат Европы», краткое содержание по главам. Том второй
- История должна восприниматься морфологически.
- Европейская культура перешла из периода развития (Культура) в эпоху увядания (Цивилизация).
Именно это и есть два основных тезиса, которыми озадачил своих современников Освальд Шпенглер. «Закат Европы» (введение, краткое содержание работы и критические статьи на исторические темы называют вышеупомянутые тезисы «краеугольными камнями» теории Шпенглера) - книга, что перевернула многое в умах философов.
Второй том называется «Перспективы мировой истории» (или «Взгляды на мировую историю»); в нем автор более подробно объясняет свою теорию развития различных культур.
Согласно теории возникновения и развития культур, которую сформулировал автор, каждая из них проходит свой собственный жизненный цикл, аналогичный жизни человека. У каждой культуры есть детство, юность, зрелость и увядание. Каждая за время существования стремится выполнить свое предназначение.
Высокие Культуры
Шпенглер выделил 8 основных культур:
- вавилонская;
- египетская;
- индийская;
- китайская;
- среднеамериканская и ацтеки);
- классическая (Греция и Рим);
- культура волхвов (арабская и иудейская культуры);
- европейская культура.

В «Закате Европы» первые пять культур находятся вне фокуса автора, Шпенглер мотивирует это тем, что эти культуры не имели прямого столкновения и посему не влияли на развитие европейской культуры, которая, очевидно, является основной темой работы.
Шпенглер уделяет особое внимание классической и арабской культурам, одновременно проводя параллели с европейской культурой индивидуализма, разума и стремления к власти.
Основные идеи и термины
Сложность прочтения «Заката Европы» заключается в том, что Шпенглер не только часто использовал привычные термины в совершенно ином контексте, но и создавал новые, значение которых практически невозможно объяснить вне контекста историко-философской теории Шпенглера.
Например, философ употребляет понятия (в работе эти и некоторые другие термины автор всегда пишет с заглавной буквы) контрастно друг другу. В теории Шпенглера это не синонимы, а в какой-то степени антонимы. Культура - это рост, развитие, поиск своей Цели и Судьбы, в то время как Цивилизация - это упадок, деградация и «доживание последних дней». Цивилизация - это то, что остается от Культуры, позволившей рациональному началу победить творческое.
Другая пара синонимично-контрастных понятий - это «произошедшее» и «происходящее». Для теории Шпенглера «становление» является краеугольным камнем. Согласно его основной идее, история должна фокусироваться не на числах, законах и фактах, описывающих то, что уже произошло, а на морфологии, то есть на происходящем в данный момент.
Псевдоморфоз - термин, которым Шпенглер определяет слаборазвитые или «сбитые с курса» культуры. Самый яркий пример псевдоморфоза представляет собой русская цивилизация, самостоятельное развитие которой было прервано и изменено европейской культурой, которую впервые «навязал» Петр I. Именно этим нежелательным вмешательством в свою культуру Шпенглер объясняет нелюбовь русского народа к «чужакам»; в качестве примера этой нелюбви автор приводит сожжение Москвы во время наступления Наполеона.
Течение истории

Основным постулатом Шпенглера в отношении истории является отсутствие абсолютных и вечных истин. То, что важно, осмыслено и доказано в одной культуре, может стать совершенной бессмыслицей в другой. Это не означает, что правда на стороне одной из культур; скорее, говорит о том, что у каждой культуры своя правда.
Помимо нехронологического подхода к восприятию развития мира, Шпенглер продвигал идею о мировой значимости одних культур и отсутствия глобального влияния других. Именно для этого философ использует понятие Высокой Культуры; оно обозначает культуру, повлиявшую на развитие мира.
Культура и Цивилизация

По теории Шпенглера, Высокая Культура становится отдельным организмом и характеризуется зрелостью и последовательностью, в то время как «примитивные» характеризуются инстинктами и стремлением к базовому комфорту.
Цивилизация расширяется без элемента развития, являясь фактически «смертью» Культуры, однако автор не видит логической возможности вечного существования чего-либо, поэтому Цивилизация - это неизбежное увядание переставшей развиваться Культуры. В то время как основная характеристика Культуры - становление и процесс развития, Цивилизация фокусируется на устоявшемся и уже созданном.
Другими важными для Шпенглера отличительными сторонами двух этих состояний являются города-мегаполисы и провинции. Культура вырастает «из земли» и не стремится к толпе, каждый небольшой город, регион или провинция обладает своим укладом и темпом развития, что в итоге составляет уникальную историческую структуру. Ярким примером такого роста является Италия в эпоху Высокого Возрождения, где Рим, Флоренция, Венеция и другие были самобытными культурными центрами. Цивилизация же характеризуется стремлением к массе и «одинаковости».
Расы и народы

Оба этих термина используются Шпенглером контекстуально, и их значения отличаются от привычных. Раса в «Закате Европы» - не биологически-определяемая отличительная характеристика вида человека, а сознательный выбор человека на протяжении существования его Культуры. Так, в стадии формирования и роста Культуры человек сам создает язык, искусство и музыку, сам выбирает себе партнеров и место жительства, тем самым определяет все то, что в современном мире называется расовыми отличиями. Таким образом, Культурное понятие расы отличается от Цивилизованного.
Понятие «народ» Шпенглер не связывает с государственностью, физическими и политическими границами и языком. В его философской теории народ происходит от духовного единства, объединения ради общей цели, которая не преследует выгоду. Решающим фактором в формировании народа является не государственность и происхождение, а внутреннее ощущение единения, «исторический момент прожитого единства».
Ощущение мира и Судьба
Историческая структура развития каждой Культуры включает в себя обязательные стадии - определение мировосприятия, познание своей Судьбы и Цели и осуществление Судьбы. Согласно Шпенглеру, каждая Культура воспринимает мир по-разному и стремится к своей Цели. Целью является выполнение своей Судьбы.
В отличие от жребия, выпадающего на долю примитивных Культур, Высокие сами определяют свой путь путем развития и формирования. Судьбой европейской Шпенглер считает мировое распространение индивидуалистической морали, которая скрывает под собой стремление к власти и вечности.
Деньги и Власть
По мнению Шпенглера, демократия и свобода тесно связаны с деньгами, которые являются основной управляющей силой в свободных обществах и крупных Цивилизациях. Шпенглер отказывается называть такое развитие событий негативными терминами (коррупция, деградация, дегенерация), поскольку считает его естественным и необходимым окончанием демократии, а часто и Цивилизации.

Философ утверждает, что чем больше денег находится в распоряжении у отдельных лиц, тем явственнее проходит война за власть, оружием в которой является практически все - политика, информация, свободы, права и обязанности, принципы равенства, а также идеология, религия и даже благотворительность.
Несмотря на малую популярность в современной философии и истории, главное детище Шпенглера заставляет задуматься над некоторыми его аргументами. Автор использует свои немалые познания в различных сферах, чтобы обеспечить идеально аргументированную поддержку собственных идей.
Независимо от того, что требуется прочитать - сокращенную и отредактированную версию труда «Закат Европы», краткое содержание или критические статьи о ней, храбрый и независимый подход автора к изменению мирового восприятия истории и культуры не способен оставить читателей равнодушными.
Общедоступное введение не пишут для профессионалов.
Это обращение к читателю, открывающему книгу Шпенглера
и не имеющему предубеждений. Наше пожелание - посмотрите «Содержание» "Заката Европы", оцените масштаб темы, заявленной во «Введении», материал и способ его подачи в последующих шести главах, и Вам будет трудно не согласиться с Н.А. Бердяевым и С.Л. Франком в том, что "Закат Европы" О. Шпенглера есть бесспорно самое блестящее и замечательное, почти гениальное явление европейской литературы со времени после Ницше. Эти слова были сказаны в 1922 г., когда феноменальный успех книги Шпенглера (за два года, с 1918 по 1920-й, вышло 32 издания 1 тома) сделал ее идею предметом пристального внимания выдающихся умов Европы и России.
"Der Untergang des Abendlandes" - "Падение Запада" (так переводят еще "Закат Европы") опубликовано в двух то мах Шпенглером в Мюнхене в 1918–1922 гг. Сборник статей Н.А. Бердяева, Я.М. Букшпана, А.Ф. Степуна, С.Л. Франка "Освальд Шпенглер и Закат Европы" вышел в издательстве «Берег» в Москве в 1922 г. На русском языке "Падение Запада " прозвучало как "Закат Европы" (Т. 1. "Образ и действительность"). Издание, в переводе Н.Ф. Гарелина, было осуществлено Л.Д. Френкелем в 1923 г. (Москва - Петроград) с предисловием проф. А. Деборина "Гибель Европы, или Торжество империализма", которое мы опускаем.
Необычно смыслоемкое и информативное «Содержание» книги "Закат Европы" само по себе есть почти забытый в наше время способ представления автором своего произведения читающей публике. Это не список тем, но многомерный, объемный, интеллектуальный, красочный и привлекательный, образ именно «Заката» Европы как феномена всемирной истории.
И сразу же начинает звучать вечная тема "Форма мировой истории", которая вводит читателя в остросюжетную проблему XX в.: как определить историческое будущее человечества, отдавая себе отчет в ограниченности наглядно-популярного членения всемирной истории общепринятой схемой "Древний мир - Средние века - Новое время?"
Заметим, что Маркс формационно членил всемирную историю также на триады, диалектически порождаемые развитием производительных сил и классовой борьбой. В знаменитой триаде "Субъективный дух - Объективный дух - Абсолютный дух" Гегеля всемирной истории отведено скромное место одной из ступеней внешневсеобщего самоосуществления мирового духа в праве, нравственности и государстве, ступени, на которую лишь ступает абсолютный дух, чтобы явиться в адекватных самому себе формах искусства, религии и философии.
Впрочем, что Гегель и Маркс, Гердер и Кант, М. Вебер и
Р. Коллингвуд! Просмотрите учебники по истории: они и ныне знакомят со всемирной историей по той же схеме, которую еще в начале XX в. подвергал сомнению Шпенглер и в которой Новое время только расширено Новейшей историей, якобы начавшейся в 1917 г. Новейший период всемирной истории в школьных учебниках до сих пор трактуется как эпоха перехода человечества от капитализма к коммунизму.
Мистическая троица эпох в высшей степени привлекательна для метафизического вкуса Гердера, Канта и Гегеля, писал Шпенглер. Мы видим, что не только для них: она приемлема для историко-материалистического вкуса Маркса, она приемлема и для практически-аксиологического вкуса Макса Вебера, т. е. для авторов любой философии истории, которая представляется им некоей заключительной стадией духовного развития человечества. Даже великий Хайдеггер, задаваясь вопросом, в чем сущность Нового времени, опирался на ту же триаду.
Что же претило Шпенглеру в этом подходе, почему уже в начале XX в. такие абсолютные мерила и ценности, как зрелость разума, гуманность, счастье большинства, экономическое развитие, просвещение, свобода народов, научное мировоззрение и т. д., он не смог принять в качестве принципов философии истории, объясняющих ее формационное, стадиальное, эпохальное членение ("наподобие какого-то ленточногочервя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой")?
Какие факты не укладывались в эту схему? Да прежде всего очевидный декаданс (т. е. «падение» - от cado - «падаю» (лат.)) великой европейской культуры в конце XIX - начале XX в., которым, согласно шпенглеровской морфологии истории, порождены и первая мировая война, разразившаяся в центре Европы, и социалистическая революция в России.
Мировая война как событие и социалистическая революция как процесс в марксистской формационной концепции истолкованы как конец капиталистической общественной формации и начало коммунистической. Шпенглер же оба эти явления интерпретировал как признаки падения Запада, а европейский социализм объявил фазой упадка культуры, тождественной, по его хронологическому измерению, индийскому буддизму (с 500 г. н. э.) и эллинистическо-римскому стоицизму (200 г. н. э.). Это отождествление могло считать причудой (для тех, кто не принял аксиоматику Шпенглера) или простым, формальным следствием концепции мировой истории как истории высших культур, в которой каждая культура предстает как живой организм. Однако провидение Шпенглера относительно судеб социализма в Европе, России, Азии, высказанное уже в 1918 г. определение сути его ("социализм - вопреки внешним иллюзиям - отнюдь не есть система милосердия, гуманизма, мира и заботы, а есть система воли к власти. Все остальное самообман") - заставляют пристально всмотреться в принципы такого понимания мировой истории.
Сегодня, по прошествии трех четвертей XX в., в течение которых возник, развился и угас европейский и советский социализм, можно по-иному оценить и предсказания О. Шпенглера, и историческое высокомерие (приведшее к исторической ошибке) В.И. Ульянова-Ленина ("как бы ни хныкали Шпенглеры" по поводу упадка "старой Европы", - это всего "лишь один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии, обожравшейся империалистическим грабежом и угнетением большинства населения земли". В самом деле, В.И. Ленин и К. Маркс видели в диктатуре пролетариата инструмент необходимого государственного насилия во имя создания общества социалистической справедливости, мира и гуманизма. Но революционная практика показала, что подобная система насилия непрерывно воспроизводит себя как система такой воли к власти, которая высасывает природные ресурсы, жизненные силы народов и дестабилизирует общемировую обстановку.
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 174.
Почти одновременно с "Закатом Европы" (1923 г.) Альберт Швейцер, великий гуманист XX в., опубликовал свою статью "Распад и возрождение культуры" 2, в которой упадок европейской культуры осмысливался тоже как трагедия мирового масштаба, а не как эпизод в истории падения мировой буржуазии. Если, согласно О. Шпенглеру, «закат» вообще невозможно конвертировать в «восход», то А. Швейцер верил в этот «восход». Для этого, с его точки зрения, необходимо было, чтобы европейская культура обрела вновь прочную этическую основу. В качестве такой основы он предложил свою "этику благоговения перед жизнью" и вплоть до 60-х гг. практически следовал ей, не разуверившись в ней даже после двух мировых войн и всех революций XX в.
В 1920 г. вышла в свет знаменитая книга Макса Вебера
"Протестантская этика и дух капитализма". С точки зрения
Вебера, о "падении Запада" и речи быть не может. Ядро европейской культуры (теории государства и права, музыки, архитектуры, литературы) - универсальный рационализм, порожденный ею давно, но получивший универсальное значение как раз в XX в. Рационализм - основа европейской науки, и прежде всего математики, физики, химии, медицины, основа "рационального капиталистического предприятия" с его производством, обменом, учетом капитала в денежной форме, со стремлением к непрерывно возрождающейся прибыли 3.
ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
йО!: 10.17805^ри.2016.1.2
«Закат Европы» О. Шпенглера и возможность заката мира
А. А. Горелов (Институт философии РАН), Т. А. Горелова (Московский гуманитарный университет)
В статье прослеживается предсказательный потенциал концепции цикличного развития культуры О. Шпенглера («Закат Европы», 1918) в отношении современной динамики западной культуры, ее связей с русской культурой и влияния на глобальные процессы. По Шпенглеру, любая культура замкнута на себя, имеет свою «душу» и «говорит на своем языке». Для создания из отдельных индивидов народа нужна внутренняя форма данной культуры, некий «душевный принцип», которым обладают все сословия. В современной западной культуре соединились в один клубок цивилизационные (мотивы воли к власти и пространственная экспансия), экономические (капитализм) и политические (идеология либерализма) причины.
В отличие от экспансивной и властной западной культуры душа русской культуры, по Шпенглеру, равнинна и безвольна, а русская воля - это «свобода от чего-то». «Душевный принцип» русской цивилизации - заключить мир в братский союз - противостоит западному - «не-свое» надо подчинить, завоевывая. Давление одной культуры на другую, навязывание чуждых ценностей и традиций провоцирует переломный момент в истории покоряемой культуры: преодолевая антинациональные элементы, она крепнет; покоряясь, становится псевдоморфозом, жалкой копией довлеющей культуры. Последняя стадия «дряхления» культуры - техногенная цивилизация, которой достигла современная Европа, - грозит «закатом» не только ей самой, но и всему миру, потому что экспансия и агрессивность Запада вовлекли в его орбиту народы всей планеты, ставшей территорией глобальной неоколонии.
Ключевые слова: «Закат Европы»; О. Шпенглер; цивилизация; культура; народ; Европа; Россия; экспансия; неоколониализм
ВВЕДЕНИЕ
Критика западной культуры, прозвучавшая в начале XX в. в работе О. Шпенглера «Закат Европы», поразила его современников в самое сердце. Речь шла «о задетом самолюбии вообще "современников": правых и левых, верующих и неверующих, идеологов и богемной братии» (Свасьян, 1993: 15). Диапазон позиций критиков - от емкой оценки в афоризме Ф. Мейнеке: «Ренегат духа, подрубающий сук, на котором сидит» до бульварной ругани типа «грошовый гипсовый Наполеон» (К. Тухольский) и «тривиальный паршивый пес» (В. Беньямин) (цит. по: там же: 16). Но вот прошло почти 100 лет с момента выхода книги, и жизнь показывает, что Шпенглер был не
только философом, ученым-культурологом и поэтом-романтиком, но и провидцем, предощущавшим будущий конфликт западной цивилизации не только с соседними народами, например русским, но и со всем миром.
О. Шпенглер, как до него русский ученый Н. Я. Данилевский, был сторонником концепции цикличного развития культур. Он считал, что отдельная культура подобно живому организму, в том числе человеку, проходит свой цикл существования от рождения до расцвета и последующего упадка и смерти. Каждая культура представляет собой своеобразный организм, имеющий свою «душу» и характерные черты, но все типы имеют нечто общее, а именно одни и те же фазы развития. Циклическая концепция противостоит представлению о линейном однонаправленном развитии всех культур с едиными общечеловеческими ценностями.
Для Шпенглера «общечеловеческой морали не существует» (Шпенглер, 1993: 529), а «общеобязательность есть всегда лишь ложное заключение от себя к другим» (там же: 153). «Что общего у Толстого, - восклицает Шпенглер, - из самой глубины человечности отвергающего весь идейный мир Запада как нечто чуждое и далекое, со "Средними веками", с Данте, с Лютером <...>?» (там же: 154). Все так называемые «всемирно-исторические» и «вечные» ценности - это ценности определенного поколения людей определенной культуры. «Феномен других культур говорит на другом языке. Для других культур существуют другие истины» (там же: 155). Попытки одной культуры навязать свои ценности другим приводят, по Шпенглеру, к губительным для культур-жертв изменениям, которые немецкий ученый назвал псевдо-морфозом.
Социальная жизнь, как и жизнь живых организмов, не обладает «вовсе никакой каузальной и нравственной логикой», но имеет «тем более последовательную логику органическую» (Шпенглер, 1998: 382). Последняя столь же детерминирована, как другие виды логики, но обладает своей спецификой.
В структуре социума Шпенглер выделил наименьшую единицу - единичный род и наибольшую - народ. Народ проходит три этапа: пранарод до стадии культуры; нация на стадии культуры; феллахский народ на стадии цивилизации - «по наиболее знаменитому их примеру, египтянам после римского времени» (там же: 173).
Народ как единство характеризует степень готовности защищать свое существование. «Народ "в хорошей форме" ("in Verfassung") - это изначально воинство, глубоко прочувствованная внутренним образом общность способных носить оружие» (там же: 379). Формирует историю воля отдельных людей, вокруг которых группируется активное меньшинство, как сказал бы Л. Н. Гумилев, - пассионариев. Через их посредство воля отдельных людей утверждается в жизни народа. На первое место в развитии бытия поставил волю немецкий философ А. Шопенгауэр в своем знаменитом труде «Мир как воля и представление» (Шопенгауэр, 1992: 392). Здесь воля находится перед представлением, так же как позже Ф. Ницше поставил волю выше интеллекта (Ницше, 1990: 2). Различие между Шопенгауэром и Ницше в том, что первый имел в виду волю к жизни, тогда как второй противопоставил ей волю к власти, соотносящуюся с волей к жизни и в то же время противоположную ей как принципиально иному виду воли, ориентированному не на существование, а на завоевание.
Для создания из отдельных индивидов народа, а на стадии культуры - нации нужна, по Шпенглеру, общая идея, внутренняя форма данной культуры, которой обладают все сословия и классы. Шпенглер называет ее «душевным принципом», который определяет все явления культуры, продуцируемые данным народом. Причем
именно коллективная душа порождает события и народы, а не наоборот. «Все великие события истории, собственно говоря, совершены народами не были, но скорее породили на свет их самих» (Шпенглер, 1998: 169; здесь и далее в цитатах - курсив первоисточника. - А. Г., Т. Г.). Душа народа первична, а сам он вторичен и как бы исполняет ее волю.
Западная (фаустовская, как ее называет Шпенглер) душа внезапно пробуждается в Х в., когда «из саксов, швабов, франков, вестготов, лангобардов внезапно возникают немцы, французы, испанцы, итальянцы» (там же: 173). События, способствовавшие образованию народов Запада и исходившие из фаустовской души, - это Крестовые походы, всемирная торговля, а дальше капитализм и колониализм. Фаустовская душа породила императорскую династическую идею. Фаустовские нации - это династические единства. С другой стороны, «...гигантское отрицание так или иначе ограниченного чувства родины - все это есть нечто исключительно фаустовское. Такого не знает ни одна другая культура.» (Шпенглер, 1993: 523).
Говоря о своих предшественниках, Шпенглер отмечает, что, кроме И. В. Гете, он обязан почти всем Ф. Ницше. У Гете он почерпнул представление об органическом характере социальной жизни и образ Фауста как олицетворение западной культуры. У Ницше позаимствовал идею воли к власти. Шпенглер сочувственно цитирует фрагмент Ницше о высшей породе людей, «которая благодаря своему превосходству в воле, знании, богатстве и влиянии, воспользуется демократической Европой как по-слушнейшим и подвижнейшим орудием, чтобы взять в свои руки судьбы земли и, как художник, работать на материале "человека"» (там же: 535). Сейчас эту породу людей называют Сверхвластью (Зиновьев, 2007: 241-242). Реализовывать волю к власти требует, по Ницше, «мораль господ»; отказ от ее реализации характеризует «мораль рабов», к которой немецкий философ относит и христианство.
Шпенглер ограничил ницшеанскую волю к власти (понимаемую им как родовое свойство человека) рамками западной цивилизации, представив ее коренной чертой западной культуры и основой западной жизни с ее «неуемной страстью к обладанию». Ницшеанский идеал «белокурой бестии» Шпенглер относил не к будущему, а называл «хищно-кошачьим резонансом» великих немецких завоевателей. Он пишет об «этосе чудовищных проявлений власти и воли наших государств, хозяйственных сил и нашей техники» (Шпенглер, 1993: 497). «Воля к власти в цивилизованно-интеллектуальном, этическом или социальном виде» стала, по Шпенглеру, «единственной и исконнейшей темой» «действительной философии XIX века» (там же: 564). Даже этический социализм он считал системой воли к власти. Примером западного волевого человека предстает у Шпенглера Наполеон (уместно вспомнить уничижительную оценку, данную Бонапарту Л. Н. Толстым в «Войне и мире»).
В одной обойме с волей к власти Шпенглер использует понятия «сила» и «пространство». Догмат силы подчеркивается как в природе, так и в истории общества, а стремление к пространственной экспансии отождествляется с волей к власти. «Мы увидим, что идентичность пространства и воли выражается в деяниях Коперника и Колумба почти что так же, как и в деяниях Гогенштауфенов и Наполеона - покорение мирового пространства» (там же: 491). Это зафиксировано и в философии. Кан-товское «пространство как априорную форму созерцания» трудно понять человеку незападной культуры, поскольку оно «означает притязание души господствовать над чужим» (там же). Так соединяются воля к власти и стремление к пространственной экспансии: первое направляет второе и реализуется через него. Напротив, от-
сутствие в античном искусстве (и в традиционной русской иконописи) перспективного заднего плана означает, по Шпенглеру, слабость воли и притязания господства над миром.
По мнению Шпенглера, «...фаустовская культура была в сильнейшей степени направлена на расширение, будь то политического, хозяйственного или духовного характера; она преодолевала все географически-материальные преграды; <...> наконец, она превратила земную поверхность в одну колониальную область и хозяйственную систему» (там же: 522). И если пока еще не всю, то пытается это сделать. Тут соединились в один клубок цивилизационные (мотивы воли к власти и пространственная экспансия), экономические (капитализм) и политические (идеология либерализма) причины. По Шпенглеру, либеральная идеология подобна лицемерной маске, которая скрывает истинное лицо воли к власти (Афанасьев, 2009: 114-116). В фундаменте лежат причины цивилизационные, на них зиждутся экономические и политические, а помогают осуществлению этого либералы как пересаженные на туземную почву западные идеологи, облегчающие захват мира Западом (Горелов, 2013: 70-90).
Продолжим цитату. «То, чего от Мейстера Экхарта до Канта взыскали все мыслители - подчинить мир, "как явление", властным притязаниям познающего Я, - то же от Оттона Великого до Наполеона (добавим Гитлера. - А. Г., Т. Г.) делали все вожди. Безграничное было исконной целью их честолюбия. и тот самый империализм, из-за которого сегодня ведется далеко еще не законченная мировая война» (Шпенглер, 1993: 522). Шпенглер имеет в виду Первую мировую войну, но эти слова вполне подходят к нашему времени, 100 лет спустя, поскольку структура личности фаустовского человека остается агрессивно-потребительской со всеми вытекающими последствиями.
В период цивилизации возникает масса как четвертое сословие. Эти «принципиально отвергающие культуру <...> новые кочевники мировых столиц <...> Масса - это конец, радикальное ничто» (Шпенглер, 1998: 377), предвестник гибели цивилизации. Масса создается цивилизацией как ее могильщик.
Так как в основе фаустовского человека лежит воля к власти, то «политика в высшем смысле - это жизнь, и жизнь - это политика» (там же: 354). Политика становится глобальным делом, как и война становится глобальной. «Всякий человек, желает он того или же нет, оказывается соучастником этих противоречивых событий, будь то как субъект или же объект: третьего не дано» (там же).
Фауст как ученый - «великий символ подлинной изобретательской культуры» (там же: 533). Экспериментальная наука - это «ведущийся с пристрастием допрос природы при помощи рычагов и винтов» (там же). Исследование становится «инквизицией», а знание - силой, что «имеет смысл лишь внутри европейско-американской цивилизации. <...> великий рассудочный миф энергии и массы <...> набрасывает картину мира так, что ею можно воспользоваться. <...> все эти учения <...> дорастают тем самым до морали целесообразности, которая очевидна американскому бизнесмену и английскому политику точно так же, как немецкому прогрессивному мещанину.» (там же: 322-323).
И тут «над всеми этими людьми нависает и подлинно фаустовская опасность того, что к этому приложил свою лапу черт, чтобы отвести их духовно на ту гору, где он пообещает им все земное могущество» (там же: 533). Сравниться с Богом с помощью изобретения вечного двигателя и прочих достижений научно-технического прогрес-
са - вот к чему приводит готическая устремленность вверх. Но дальше следует закат Европы, выпадающей, по Шпенглеру, на первые века ближайшего тысячелетия. Он уже начался.
ЗАПАД И РОССИЯ
В плане нашей темы интерес представляет сравнение западной культуры с русской. Шпенглер уделяет русской культуре в своей книге лишь несколько страниц, рассеянных по двум томам. Тем не менее он, как и Н. Я. Данилевский, уверенно заявляет о коренных отличиях этих двух культур. Исконная русская душа, пишет Шпенглер, судя по сопоставлению народных сказаний об Илье Муромце с западными сказаниями об Артуре и Нибелунгах, неизмеримо отлична от фаустовской. «Русская безвольная душа, прасимволом которой предстает бесконечная равнина, самоотверженным служением и анонимно тщится затеряться в горизонтальном братском мире. Помышлять о ближнем, отталкиваясь от себя, нравственно возвышать себя любовью к ближнему, каяться ради себя - все это выглядит ей знаком западного тщеславия и кощунством, как и мощное взыскание неба наших соборов в противоположность уставленной куполами кровельной равнине русских церквей» (Шпенглер, 1993: 489).
Не зная, по-видимому, про русский космизм как специфическое направление русской культуры, приведшее к запуску в СССР первых спутников и человека в космос, Шпенглер утверждает, что русский «просто не видит звезд; он видит один только горизонт. Вместо небесного купола он видит небесный откос. Это есть нечто, образующее где-то вдали с равниной горизонт» (Шпенглер, 1998: 307). То, что мы называем широтой русского национального характера, Шпенглер снижает до равнинности. «Русская "воля"... значит прежде всего отсутствие долженствования, состояние свободы, причем не для чего-то, но от чего-то, и прежде всего от обязанности личного деяния» (там же).
Равнинность русской души Шпенглер связывает со слабостью воли. Здесь параллель представлению русской философии (и особенно ярко у Н. А. Бердяева) о «женской душе» русской культуры (Бердяев, 1992: 299). Противопоставляя западный индивидуализм коллективизму и соборности русского национального характера, Шпенглер утверждает: согласие русских безлично и «осуждает "Я", как грех, а равным образом таково и - подлинно русское - понятие правды как безымянного согласия призванных» (Шпенглер, 1993: 490). Для русского «все виноваты во всем». Представление преступника как несчастного - «это полнейшее отрицание фаустовской персональной ответственности. <...> Мистическая русская любовь - это любовь равнины, любовь к таким же угнетенным братьям.» (Шпенглер, 1998: 307).
Мы интересуемся Западом, потому что в русской цивилизации есть стремление объять мир и заключить его в братский союз, а у западной цивилизации этого нет - мы для них «чужое» и «чуждое», которое надо завоевать. Фауст продал душу дьяволу за власть над миром. В противоположность фаустовской техногенной цивилизации «русский со страхом и ненавистью взирает на эту тиранию колес, проводов и рельсов, и если сегодня и в ближайшем будущем он с такой неизбежностью мирится, то когда-нибудь он сотрет все это из своей памяти и своего окружения и создаст вокруг себя совершенно другой мир, в котором не будет ничего из этой дьявольской техники» (там же: 536).
Колонизация славянских земель немцами как стратегическое устремление на Восток началась еще 1000 лет назад с самого рассвета фаустовской культуры и продол-
жается по сю пору. Русский отвечает или сопротивлением или вдруг обнаруживает «готовность сделаться добычей других, которые от войны не отказываются. Начинается все желанием всеобщего примирения, подрывающим государственные основы, а заканчивается тем, что никто пальцем не шевельнет, пока беда затронула лишь соседа» (там же: 463). Шпенглер здесь как бы описывает отказ в конце XX в. СССР и затем России от гонки вооружений и сдачу своих союзников, в результате чего Запад вплотную подошел к границам сжавшейся территории страны. У немецкого ученого есть возможное объяснение случившегося. «С русским состраданием, типа сострадания Раскольникова, дух исчезает в братской массе; с фаустовским он выделяется на ее фоне» (Шпенглер, 1993: 535).
Воля к власти связана у Шпенглера со стремлением к деньгам как обеспечивающим ее. Русский же человек «воспринимает мышление деньгами как грех. <...> здесь юное человечество, для которого вообще нет еще никаких денег» (Шпенглер, 1998: 528). Действительно, русская культура мыслит деньгами не как силой, энергией, способом обеспечения власти, а только как средством существования и выживания. Поэтому у нас их никогда не будет слишком много. По Шпенглеру, русские «всем центром тяжести своего существа пребывают вне экономики и политики, как и вне всех прочих фактов "этого мира"» (там же: 501), и оказываются в одной группе магических культур вместе с первохристианами и Диогеном (о русском нестяжании и странничестве писали многие русские философы). «Поэтому и избирают такие люди добровольную бедность и странничество и укрываются в монашескую келью и кабинет ученого» (там же).
В концепции Шпенглера большое значение имеет понятие псевдоморфоза, взятое им из геологии и перенесенное на взаимодействие культур. Это естественно-научное понятие определенным образом связано с тем, что, подчеркивая субъективный момент данного явления, В. С. Соловьев называл национальным самоотречением, а Н. Я. Данилевский - духовным самопожертвованием. Шпенглер впервые обозначил проблему негативных воздействий культур друг на друга, портящих блаженную картину непрерывного всемирно-исторического прогресса, в котором ничего не пропадает. Заметим, что негативное воздействие сейчас грозит всем культурам мира от западной цивилизации, а особенно русской культуре.
Немецкий ученый сравнивает отношение России к Европе с отношением первохри-стиан к Риму и вообще ко всей античной культуре, и это сопоставление симптоматично. Полагая, что русская культура отстает от западной, Шпенглер пишет: «В царской России не было никакой буржуазии, вообще никаких сословий в полном смысле слова, но лишь крестьяне и "господа", как во Франкском государстве» (там же: 199). Суть русского псевдоморфоза, по Шпенглеру, в том, что высшее «общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе» (там же). Противоположность западнического общества и народа олицетворяют, по Шпенглеру, две «жертвы псевдоморфоза» - Достоевский и Толстой, где Достоевский был «крестьянин», а Толстой - «человек из общества мировой столицы». Слова Ивана Карамазова о Европе как кладбище, которые цитирует немецкий философ, перекликаются с главным его выводом о закате Европы. Хоть Шпенглер и считает русскую культуру псевдоморфозом, но полагает, что к уровню «Анны Карениной» никто даже близко не подошел, а о Достоевском пишет, что его Христос, «которого он неизменно желал написать, сделался бы подлинным Евангелием» (там же: 201). Христианство Достоевского принадлежит, по Шпенглеру, будущему тысячелетию.
Немецкий ученый выделяет три этапа развития русской культуры. В Московскую эпоху старорусская партия неизменно билась против друзей западной культуры, а «с основанием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз, втиснувший примитивную русскую душу вначале в чуждые формы высокого барокко, затем Просвещения, а затем - XIX столетия» (там же: 197). России грозит участь стать объектом в истории чужой культуры, у которого более нет души, а стало быть, и собственной истории.
Арабская культура избавилась от псевдоморфоза с возникновением ислама. Русская революция 1917 г. была восстанием против псевдоморфоза, и Шпенглер высоко оценивает будущее ставшей независимой русской культуры, решающим для которой должно было стать XX столетие. Данный прогноз отчасти осуществился. Советский Союз стал сверхдержавой. Но в конце XX в. произошло то, что Шпенглер мог бы назвать рецидивом псевдоморфоза. Это было следствием желания российской элиты сделать Россию похожей на Европу. Западная цивилизация ответила на это стремлением ослабить и добить Россию, что вызывает подъем патриотических чувств в русском народе.
Здесь открывается очень важная и опасная для России особенность культуры. «В истории всех культур всегда наличествовал антинациональный элемент» (там же: 190) как чистое, направленное само на себя мышление, чуждое жизни и истории, невоинственное и безрасовое. Судьба нации определяется тем, насколько успешно она будет бороться с антинациональным элементом и насколько она лишит его действенности в историческом плане. Если нет, то это «означает сход нации со сцены внутри истории, и не в пользу вечного мира, но в пользу других наций» (там же: 191). Добавим: и не в пользу горбачевского «нового мышления». Национальное самоотречение русского народа резко понизило его жизненную силу и способность к сопротивлению даже в демографическом смысле, и надо поднимать народный дух, если мы хотим сохранить свое существование в истории.
Хотя адекватное постижение духа другой культуры затруднено, интересно сопоставить взгляды Шпенглера и Данилевского, тем более что первый в своей книге не ссылается на второго, возможно, потому, что немецкий перевод книги Данилевского «Россия и Европа» вышел в 1920 г., а значит, уже после публикации «Заката Европы» (Свасьян, 1993: 18).
Оба мыслителя следовали концепции цикличного развития культуры. И тот и другой критиковали эволюционные представления, хотя противоречия между сторонниками линейного и цикличного развития можно преодолеть с помощью гегелевской диалектики. И Шпенглер, и Данилевский полагали, что Запад и Россия представляют собой различные культуры, обреченные на «планомерное непонимание» друг друга (Горелов, 2015). Шпенглер видит чуждость России и Запада даже в отношении к науке. «Основная идея дарвинизма представляется истинному русскому столь же нелепой, как основная идея коперниканской системы - истинному арабу» (Шпенглер, 1993: 153). Отметим, что Коперник, рассматриваемый Шпенглером в качестве одного из столпов западной культуры, - славянин.
И Шпенглер, и Данилевский считают русскую культуру более юной по сравнению с западной и пророчат ей великое будущее. Они сходно определяют коренную черту западной и русской культуры, но так как своя культура каждому из них ближе и дороже, то насильственность как коренную черту западной культуры, по Данилевскому, Шпенглер смягчает до воли к власти, а терпимость как главную характеристику рус-
ской культуры (но также и греческой, вообще античной культуры), противопоставляя, как и Данилевский, стремлению к господству, снижает до безвольности. Кстати, крупнейший историк XX в. А. Тойнби называет западную цивилизацию агрессором, а другие современные цивилизации - ее жертвами. «Русские считают себя жертвой непрекращающейся агрессии Запада, и, пожалуй, в длительной исторической перспективе для такого взгляда есть больше оснований, чем нам бы хотелось» (Тойнби, 1996: 106).
Данилевский говорит преимущественно о чуждости Европы к России, а Шпенглер, наоборот, о чуждости и даже ненависти России к Европе, приводя в подтверждение слова славянофилов. Но, например, у западников можно найти цитаты, совершенно противоположного смысла, что объяснимо, впрочем, псевдоморфозом русской культуры, произошедшим в постпетровское время. Именно псевдоморфоз разделил, на наш взгляд, русское образованное общество на западников и славянофилов, что не известно другим культурам. А вот упоминавшийся выше А. Тойнби в более объективном плане утверждает, что Россия и Запад «всегда были чужды друг другу, антипатичны и часто враждебны» (там же: 157).
Вслед за Данилевским Шпенглер считает, что «нация, поскольку она живет и борется, обладает государством» (Шпенглер, 1998: 378), но особенности этого государства определяются спецификой данной нации. «Не существует никакого лучшего, истинного, справедливого государства, которое было бы спроектировано и когда-либо осуществлено. <. > такие слова, как "республика", "абсолютизм", "демократия", означают в каждом случае нечто иное и делаются фразой, стоит только, как это чаще всего у философов с идеологами и бывает, попытаться их применять как понятия, установленные раз и навсегда» (там же: 389).
Отметим в заключение данного раздела, что люди, относящиеся к различным культурам, могут иметь (как Данилевский и Шпенглер) сходные взгляды по некоторым основополагающим вопросам и вряд ли это можно всецело объяснить псевдоморфозом культур.
ЗАКАТ ЕВРОПЫ КАК СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Цивилизацию как последнюю стадию развития культуры характеризуют «космополитизм вместо "отчизны", холодный фактический смысл вместо благоговения перед преданием и старшинством. "общество" вместо государства, естественные права вместо приобретенных. Деньги как неорганическая, абстрактная величина, оторванная от всех связей со смыслом плодородной почвы, с ценностями исконного жизненного уклада.» (Шпенглер, 1993: 166).
На общие особенности развития цивилизации как последней стадии любой культуры в западной цивилизации накладываются ее специфические черты - воля к власти и стремление к территориальному и финансовому успеху. Все стороны жизни свя-
заны воедино как происходящие из одного источника - души культуры. «Политика и торговля <...> являются заменой войны другими средствами» (Шпенглер, 1998: 503), - переиначивает Шпенглер К. Клаузевица. Он согласен с К. Марксом, что борьба и жизнь - в глубине одно и то же.
Все моральные аспекты отходят при этом на второй план. Прирожденный государственный деятель находится по другую сторону истины и лжи. Вслед за Гете, сказавшим, что «деятель всегда бессовестен, совесть есть лишь у одного наблюдателя», Шпенглер впадает в макиавеллизм. Поведение деятеля определяет не религиозная мораль, а «катехизис успеха»: «Это жизнь бессовестна, а не отдельный человек» (там же: 469). Точнее, и жизнь, и человек. Ну а если правитель попробует отказаться от аморального детерминизма, то «идеализм реакционный и демократический <...> готовят нации, властью над которой обладают, неминуемое крушение, а после этого безразлично, была ли нация принесена в жертву воспоминанию или понятию» (там же). Это Шпенглер как будто говорит первому и последнему президенту СССР М. С. Горбачеву, если верить в искренность действий последнего.
Целью дипломатии и военного искусства является «рост собственной жизненной единицы, сословия или нации, за счет других. И всякая попытка исключить этот расовый момент приводит лишь к его переносу в другую сферу: из межгосударственной сферы он перемещается в межпартийную, межландшафтную, или же, если воля к росту угасает также и здесь, - возникает в отношениях между свитами авантюристов, которым добровольно покоряется остальное население» (там же: 467). Почти подобное этому мы проходили в России в «лихие» 1990-е.
Цивилизация характеризуется выходом на историческую арену масс. При этом возрастает роль СМИ, с помощью которых народы удерживаются в руках правящего меньшинства. «Печатное слово становится чудовищным оружием в руках того, кто с ним умеет обращаться. <...> Кампания в прессе возникает как продолжение (или расширение) войны иными средствами, и ее стратегия - все эти бои сторожевых охранений, отвлекающие маневры, внезапные нападения, штурмы - отшлифовывается в течение XIX в. до такой степени, что война может быть проиграна еще до того, как раздался первый выстрел, потому что ее к этому времени выиграла пресса» (там же: 490-491). Такова информационная война в изложении Шпенглера, который называет прессу «духовной артиллерией».
Печать становится средством власти. Одним из приемов является замалчивание нежелательных мнений. На место костров, по словам Шпенглера, приходит «великое молчание». «.Пресса служит тому, кто ею владеет. Она не распространяет "свободное мнение", но его создает» (там же: 428), и доводы прессы остаются неопровержимыми до тех пор, пока выделяются деньги на то, чтобы их повторять.
Как английская королевская власть в XIX в., так и парламент Великобритании в XX в. становится пышным и пустым спектаклем, а власть, по мнению Шпенглера, перемещается из парламентов в частные круги, и выборы вырождаются в комедию. «Деньги организуют весь их ход в интересах тех, у кого они имеются, и проведение выборов становится заранее оговоренной игрой, поставленной как народное самоопределение» (там же: 494). Так приходит конец демократии.
Воля к власти способствовала развитию техники как средства воздействия на природу. Фаустовская техника уже на заре готики набросилась на природу, чтобы сделать ее рабыней и эксплуатировать. Знание рассматривается как сила, желающая «управлять миром по своей воле» (там же: 532). Земной шар приносится в жертву
фаустовскому мышлению, и именно западная цивилизация порождает экологический кризис. Шпенглер кончает свою книгу главой о машинной технике, что соответствует определению нынешнего времени как компьютерного века. «Машина воспринималась как что-то дьявольское, и не напрасно. В глазах верующего человека она означает ниспровержение Бога» (там же: 535).
Шпенглер утверждает тесную взаимосвязь экономики и политики как двух сторон одного целого, причем политический момент - безусловно определяющий. Экономическая жизнь выстраивается в пирамиду, в основании которой крестьянское хозяйство, а выше - городская и затем мировая экономика с ее транснациональными корпорациями. В деревне главный материальный ресурс - «добро», в городе - «деньги». Постепенно деньги отслаиваются от добра и начинают довлеть над всем. «В действительной же жизни города независимым можно быть только через деньги», в которых находит «свое концентрированное выражение воля к господству» (там же: 515).
Буржуазные революции вели к власти денег, никакими ценностями не сдерживаемыми, в том числе материальными, т. е. к вторичному финансовому капиталу. Шпенглер берет слово «деньги» в кавычки, потому что в отличие от реальных денег, имеющих эквивалент материальных ценностей, вторичные деньги представляют собой ничем не обеспеченное «ничто», на которое можно купить «все». Чтобы сделать деньги средством осуществления, власти, их нужно эмансипировать, как называет это Шпенглер, т. е. разорвать их связь с материальными ценностями, которые конечны. Это и произошло в современной экономике. Создание не обеспеченных материальными ценностями денег Шпенглер назвал «деньготворчеством». Деньги и организации, в которых они циркулируют, из средства существования преобразуются в самостоятельную силу и за счет этого управляют миром. Великие состояния Шпенглер сравнивает с королевствами. «Чем большим становилось богатство, которое могло сконцентрироваться в руках отдельных лиц, тем в большей степени борьба за политическую власть преобразовывалась в вопрос денег» (там же: 487), а демократия стала полным уравниванием денег и политической власти. Шпенглер ставит знак равенства между демократией и плутократией. «Они относятся друг к другу, как желание - к действительности, теория - к практике, познание - к успеху» (там же: 425-426).
По Шпенглеру, заключительной политической стадией развития западной цивилизации будет отказ от демократии в пользу диктатуры (цезаризма, как произошло в Древнем Риме). Он считал, что данный процесс уже начался, имея в виду Третий рейх (Гергилов, 2007: Электронный ресурс), тем самым переводя западную цивилизацию на инволюционную направленность развития. В наше время усиление диктатуры связано с формированием Сверхвласти, которая «аккумулирует в себе высший контроль над всеми аспектами общества, включая всю его систему власти» (Зиновьев, 2007: 242), центр которой находится в США. Данные цели США и стоящей за ними Сверхвласти не афишируются, но осуществляются втайне от остального мира.
Заключительной же экономической стадией будет власть денег, не связанных с первичной экономикой и наличными материальными ресурсами. Современная мировая экономика - это, по Шпенглеру, исключительно западная экономика, что после разрушения СССР с возможной поправкой на Китай снова стало верным, как и в начале XX в. Деньги побеждают, поскольку «лишь мир высших финансов совершенно свободен, совершенно неуловим. <...> Однако тем самым деньги подходят к концу своих успехов и начинается последняя схватка, в которой цивилизация принимает
свою завершающую форму: схватка между деньгами и кровью. <...> Деньги будут преодолены и упразднены только кровью» (Шпенглер, 1998: 537-538).
Шпенглер пишет о времени «упадка», «первых заморозков», заката жизни и о «метафизическом повороте к смерти». Он говорит о «бесплодии цивилизованного человека», и это верно не только иносказательно, но и буквально. «"Всеобщий страх перед действительностью", возникающий у людей естественно-органического, крестьянского склада вместе с невозвратимой утратой чувства мира, рассматривается Шпенглером как страх человека, отрезанного от своей естественной жизненной почвы» (Мёккель, 2007: 171). И такая оторванность от духовной почвы закладывает разнообразные отклонения - сексуальные, субкультурные и связанные с потреблением психотропных препаратов и наркотиков - и стимулирует образование групп, «меньшинств», не по традиционным критериям родства и местообитания, а по сходству отклонений от нормы. Так внутренняя духовная пустота и однородная «массовид-ность» сознания цивилизованного человека компенсируются внешним разнообразием девиантных форм поведения. И это не способствует росту духовного потенциала культуры. Таким образом, черты «заката» культуры видны как в духовной сфере, так и в утрате возможностей физического воспроизводства.
Схематически идея заката Европы предстает в таком виде: становление цивилизации ^ создание масс ^ демократия ^ плутократия ^ диктатура ^ голос крови ^ гибель западной цивилизации.
Если не заглядывать так далеко, как Шпенглер, оставляющий для личности лишь свободу свершить необходимое, то мы переживаем ныне тот исторический момент, в который глобальный неоколониализм стремится одержать победу над человеком и миром, и верим, что этого не произойдет и что воля к свободе и справедливости победит волю к власти.
ЗАКАТ МИРА КАК «КОНЕЦ ИСТОРИИ»
«Закат Европы» называют самой своевременной книгой эпохи. Это книга-предостережение. Закат Европы несет разрушительные войны, возрастающий примитивный характер политических форм, внутренний распад наций и превращение их в бесформенное население, обобщение последнего в империю, постепенно вновь приобретающую примитивно-деспотический характер, медленное воцарение первобытных состояний в высокоцивилизованных жизненных условиях. На эти предсказания накладываются реалии эпохи глобализации. Цивилизация ныне поднялась на глобальный уровень, что грозит всему миру под напором западной цивилизации погружением в хаос. По отношению к «мировой (если не глобальной) столице», которая становится единой метрополией, все остальные города и веси - уже не просто провинция, а одна планетарного масштаба колония нового типа. Свою гибель Запад пытается отдалить путем завладения ресурсами всей планеты и эксплуатации всех народов. До гибели Европы, по Шпенглеру, еще несколько столетий, хотя некоторые ученые считают, что история ускоряется в своем беге. Немецкий ученый советует предпочесть лирике и живописи занятие военно-морским делом как более соответствующим эпохе заката. Но тем самым гибель цивилизации может только приблизиться.
Закат Европы не означает отсутствия достижений и прелестей. Он может быть очень красивым. Книга Шпенглера вышла сразу же после Первой мировой войны. Вакханалии организованного убийства как раз помогли такие достижения цивилиза-
ции, как мощные орудия, танки, самолеты и ядовитые газы. Через четверть века вспыхнула Вторая мировая война - еще один, как его назвали, «обширный инфаркт» Европы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Силовое поле современного капитала охватывает всю Землю. Из воли к власти, вторичной экономики денег и всемирной политической диктатуры возникает грандиозное здание, которое создает Запад вместе со странами, подчинившимися его цивилизации. «Если представить, что весь мир сделался одной-единственной империей, это всего-навсего максимально расширило бы сцену для героических деяний таких завоевателей» (Шпенглер, 1998: 192). Эту единственную империю и пытаются создать США огнем и мечом. Как только созрела объективная возможность глобализации, так Запад предпринял посредством глобальной гибридной войны с ее апофеозом разрушения планеты попытку построения системы глобального неоколониализма. Как Первая мировая война стал одним из признаков заката Европы, так нынешняя глобальная война становится признаком заката мира.
Цель фаустовской души - всеобщее преобразование не только земли (природы), как хотел гетевский Фауст, но и социальной действительности вместе с ее народами, что предполагает лишение их самостоятельности, а то и жизни, если они начнут сопротивляться данному преобразованию. Под руководством единственной сверхдержавы в условиях отсутствия противовеса гибнут государства и на их месте воцаряется хаос, а толпы беженцев устремляются в благополучную пока Европу, чтобы обеспечить себе нормальное существование. Политики вопрошают, обращаясь с трибуны ООН к тем, кто создает этот хаос, с восклицаниями: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?!» и «Скажите нам, что вы хотите?»
Возникла ситуация «управляемого хаоса», который осуществляют США, чтобы добиться своих целей, хотя управлять хаосом невозможно в принципе, что и подтверждает ситуация в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других государствах, ставших объектами американской агрессии. Перенесет ли мир начавшуюся глобальную войну или она предстанет апокалипсисом? Мы видим, что все «победы» США оборачиваются неожиданными последствиями усиления «Аль-Каиды», ИГИЛ, гражданской войной на Украине и потоками беженцев, от которых ЕС начинает трещать по швам. Это ли не плата за волю к власти и карма истории?
Своими якобы «общечеловеческими» ценностями, которые на самом деле ценности только его цивилизации, Запад пытается расшатать и уничтожить ценности других цивилизаций, которые обеспечивают их существование, и тем самым сломить их волю к сопротивлению. Этому служит аргумент Б. Обамы с трибуны 70-й сессии ООН 28 сентября 2015 г. о том, что американцы стали самыми сильными в мире благодаря капитализму и демократии и другие народы, если они хотят также стать сильными, должны руководствоваться данными ценностями. Для Шпенглера этот аргумент показался бы демагогической уловкой, так как он считал, что верой в реальную мощь и авторитет данного государства «должны проникнуться даже его противники» (там же: 387). Призвав все страны мира переориентировать свои культуры в русло западной цивилизации, Обама предложил им совершить, в терминологии Шпенглера, глобальный псевдоморфоз, отказавшись от свободного развития в собственных интересах. Если так произойдет, то это должно в соответствии с концепцией Шпенглера привести к двум последствиям: во-первых, самоубийству всех культур мира, кроме за-
падной, а во-вторых, к закату уже не только Европы, но и мира в целом. Данную возможность немецкий ученый не предусмотрел, поскольку в начале прошлого века еще не наступила эпоха глобализации, но сейчас такая опасность существует и предсказанный Ф. Фукуямой «конец истории» грозит уже не в переносном, а в прямом смысле. Закат Европы, доведенный до заката мира, перекликается с «концом истории» как творческого становящегося целого. В эпоху цивилизации все застывает, превращается в ставшее. Цивилизованный стиль представляет собой, по Шпенглеру, «выражение окончательности».
Идет глобальная экспансия фаустовского начала, считающего, что успех - это право сильного, становящееся правом для всех (там же: 381). Налицо яркий пример осуществления Западом воли к власти в условиях как бы чистого социального эксперимента, который история дала возможность провести, когда Советский Союз пошел на национальное самоотречение, подтвердившее правоту слов немецкого гения: «.если в потоке событий народ действительно лишится всякого руководства, это означает лишь то, что его руководство переместилось вовне, что он как целое сделался объектом» (там же: 468). Но зачем русской цивилизации становиться сырьевым придатком и этнографическим материалом закатывающегося Запада?
«Народ формирует историю постольку, поскольку он находится в "хорошей форме"» (там же: 379). Русский народ после разрушения СССР находится в «плохой форме», и ему надо постепенно подниматься и заниматься государственным строительством, если он хочет нормально существовать. Негативные последствия национального самоотречения 1991 г. можно подтвердить такой фразой Шпенглера: «Мир фактов беспощадно ступает по идеалам, и если когда бы то ни было случалось, что человек или же народ ради справедливости отказывался от сиюминутного могущества, то хоть в том, втором мире мыслей и истин им несомненно и бывала обеспечена теоретическая слава, так же несомненно было для них и наступление мгновения, когда они оказывались побеждены другой жизненной силой, лучше их разбиравшейся в реальности» (там же: 381).
С этой точки зрения наша нынешняя борьба в Сирии - это естественный ответ не только на современный терроризм, но и на агрессию Запада. Напрашивается вопрос: может ли новое нынешнее переселение народов отсрочить или даже отменить закат Европы или, наоборот, оно ускорит его? Аналогия с переселением народов в поздне-античное время позволяет заключить, что если и может отсрочить, то не предотвратить. В Европе могут появиться новые цивилизации, так же не похожие на нынешнюю, как последняя не похожа на античную цивилизацию. Но для нас гораздо важнее судьба России, пониманию которой помогают великие мыслители прошлого.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Афанасьев, В. В. (2009) Социология политики Освальда Шпенглера. М. : КДУ. 192 с.
Бердяев, Н. А. (1992) Душа России // Русская идея / сост. и вступ. ст. М. А. Маслин. М. : Республика. 496 с. С. 295-312.
Гергилов, Р. Е. (2007) Шпенглер и Третий рейх [Электронный ресурс] // Новый исторический вестник. №1(15). URL: http://nivestnik.ru/2007_1/05.shtml [архивировано в WebCite] (дата обращения: 16.09.2015).
Горелов, А. А. (2013) Глобальный неоколониализм и русская идея. М. : ЛЕНАНД. 256 с.
Горелов, А. А. (2015) Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского и современная социально-политическая реальность // Знание. Понимание. Умение. №4. С. 53-62. DOI: 10.17805/zpu.2015.4.5
Зиновьев, А. А. (2007) Запад. М. : Алгоритм; ЭКСМО. 512 с.
Мёккель, К. (2007) Диагностика кризиса: Гуссерль против Шпенглера // Логос. №6 (63). С. 147-175.
Ницше, Ф. (1990) Соч. : в 2 т. М. : Мысль. Т. 2. 833 с.
Свасьян, К. А. (1993) Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность / пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. М. : Мысль. 663 с. С. 5-122.
Тойнби, А. Дж. (1996) Цивилизация перед судом истории. М. ; СПб. : Прогресс-Культура; Ювента. 480 с.
Шопенгауэр, А. (1992) Собр. соч. : в 5 т. / сост., вступ. ст., прим. Б. К. Чанышева. М. : Московский клуб. Т. 1. Мир как воля и представление. 395 с.
Шпенглер, О. (1993) Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность / пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. М. : Мысль. 663 с.
Шпенглер, О. (1998) Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы / пер. с нем. и примеч. И. И. Маханькова. М. : Мысль. 606 с.
Дата поступления: 12.11.2015 г.
OSWALD SPENGLER"S DECLINE OF THE WEST AND A POSSIBLE DECLINE OF THE WORLD A. А. Gorelov (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences), T. A. Gorelova (Moscow University for the Humanities)
The article examines the predictive capability of cyclic development of culture as a concept advanced by Oswald Spengler in his "Decline of the West" (1918). This capability is tested against the contemporary dynamics of Western culture, its contact with Russian culture and the impact it has on global processes.
Every culture, according to Spengler, is self-contained, endowed with its own "soul" and "speaks its own language". To make a people from individuals an internal form, or "soul principle", is needed, something which have all the estates in the society possess. Contemporary culture of the West weaves together its civilizational causes (will for power and spatial expansion), economic (capitalism) and political (liberal ideology) causes.
Unlike the expansionist and power-hungry Western culture, the soul of the Russian culture, according to Spengler, is akin to the Russian plains and devoid of will. The Russian version of freedom (volya) is "a freedom from something". "The soul principle" of Russian civilization is to embrace the world like a brother. This brotherly union stands in contrast to the Western principle of subjugation and conquest. As one culture exerts pressure on another, imposing alien values and traditions onto it, a crucial stage begins in the history of the nation being subdued. If it manages to overcome antinational elements, it grows stronger; otherwise it becomes a pseudomorphic, weak copy of the dominating culture.
Contemporary Europe has achieved the final stage of cultural "aging" - a technogenic civilization. It threatens with "decline" of both Europe and the world as the expansion and aggression of the West have drawn all the peoples of the world into its orbit and made the planet a global neo-colony.
Keywords: "Decline ofthe West"; O. Spengler; civilization; culture; people; Europe; Russia; expansion; neocolonialism
Afanasiev, V. V. (2009) Sotsiologiia politiki Osval"da Shpenglera : A monograph. Moscow, KDU Publ. 192 p. (In Russ.).
Berdyaev, N. A. (1992) Dusha Rossii . In: Russkaia ideia / comp. and foreword by M. A. Maslin. Moscow, Respublika Publ. 496 p. Pp. 295-312. (In Russ.).
Gergilov, R. E. (2007) Shpengler i Tretii reikh . Novyi istoricheskii vestnik, no 1 (15). Available at: http://nivestnik.ru/2007_l/05.shtml (accessed 12.11.2015). (In Russ.).
Gorelov, A. A. (2013) Global"nyi neokolonializm i russkaia ideia . Moscow, LENAND Publ. 256 p. (In Russ.).
Gorelov, A. A. (2015) Kontseptsiia kul"turno-istoricheskikh tipov N. Ia. Danilevskogo i so-vremennaia sotsial"no-politicheskaia real"nost" . Znanie. Ponimanie. Umenie, no. 4, pp. 53-62. DOI: 10.17805/zpu.2015.4.5 (In Russ.).
Zinoviev, A. A. (2007) Zapad . Moscow, Algoritm Publ. ; Eksmo Publ. 512 p. (In Russ.).
Mockel, C. (2007) Diagnostika krizisa: Gusserl" protiv Shpenglera . Logos, no. 6 (63), pp. 147-175. (In Russ.).
Книга Освальда Шпенглера(1880-1936) " Закат Европы" стала одним из самых значительных и противоречивых шедевров в области социологии культуры, философии истории и философии культуры. "Закат Европы" - это произведение, которое содержит биологическую философию истории: культуры - это те же живые организмы, которые зарождаются, растут, взрослеют, стареют и увядают. Всемирная история представляет собой чередование и сосуществование различных культур, каждая из которых имеет неповторимую душу.
Культурологическая концепция Шпенглера строится на сопоставлении и в большей части на противопоставлении культуры и цивилизации.
В мировой истории Шпенглер выделяет восемь типов культур, достигших полноты своего развития, - это античность и Западная Европа, арабская культура, Египет, Вавилон, Индия, Китай и культура майи. Для Шпенглера их существование в разные времена на самых отдаленных территориях планеты - свидетельство не единого мирового процесса, а единства проявления культуры во всем ее многообразии. Культура у Шпенглера - сложившийся в веках исторический индивидуум, историко-культурная целостность, сущность которой образует религия. Термином цивилизации Шпенглер обозначает последнюю, неизбежную фазу всякой культуры. Цивилизация как исключительно технико-механическое явление противоположна культуре как царству органически-жизненного. Цивилизация, обладая одними и теми же признаками во всех культурах, есть выражение отмирания целого как организма, затухание одушевляющей его культуры, возврат в небытие культуры.
По Шпенглеру, в основе каждой культуры лежит душа, а культура - это символическое тело, жизненное воплощение этой души. Но ведь всё живое когда- нибудь умирает. Живое существо рождается, чтобы реализовать свои душевные силы, которые затем угасают со старостью и уходят в небытие вместе со смертью. Такова судьба всех культур. Шпенглер не объясняет истоки и причины рождения культур, но зато их дальнейшая судьба нарисована им со всей возможной выразительностью.
“Каждая культура проходит возрастные ступени отдельного человека. У каждой есть своё детство, своя юность, своя возмужалость и старость»1.
Смерть культуры Шпенглер связывает с наступлением эпохи цивилизации. “Цивилизация есть неизбежная судьба культуры, Будущий Запад не есть безграничное движение вперёд и вверх, по линии наших идеалов... Современность есть фаза цивилизации, а не культуры. В связи с этим отпадает ряд жизненных содержаний как невозможных... Как только цель достигнута, и вся полнота внутренних возможностей завершена и осуществлена вовне, культура внезапно коченеет, она отмирает, её кровь свёртывается, силы надламываются - она становится цивилизацией. И она, огромное засохшее дерево в первобытном лесу, ещё многие столетия может топорщить свои гнилые сучья».
Культура основана на неравенстве, на качествах. Цивилизация проникнута стремлением к равенству, она хочет обосноваться в количествах. Культура аристократична, цивилизация демократична.
Шпенглер останавливается на рассмотрении трёх исторических культур: античной, европейской и арабской. Им соответствуют три “души” - аполлоновская, избравшая в качестве своего идеального типа чувственное тело; фаустовская душа, символом которой является беспредельное пространство, динамизм; магическая душа, выражающая постоянную дуэль между душой и телом, магические отношения между ними. Отсюда вытекает содержание каждой из культур. Для Шпенглера все культуры равноправны; каждая из них уникальна и не может быть осуждена с внешней позиции, с позиции другой культуры. Феномен других культур говорит на другом языке. Для других людей существуют другие истины. Для мыслителя имеют силу либо все из них или не одна из них. Сконцентрировав своё внимание не на логике, а на душе культуры, он сумел точно подметить своеобразие европейской души, образом которой может (как считает сам автор) являться душа гётевского Фауста - мятежная, стремящаяся преодолеть мир своей волей.
Шпенглер считает, что каждая культура имеет не только своё искусство, но и своё собственное естествознание и даже свою уникальную природу, т.к.
природа воспринимается человеком через культуру. “Каждой культуре присущ уже вполне индивидуальный способ видения и познания мира - как природы”, или - одно и то же - “у каждой есть своя собственная, своеобразная природа, каковой в точно таком же виде не может обладать ни один человек иного склада. Но в ещё более высокой степени у каждой культуры есть собственный тип истории, в стиле которой он непосредственно созерцает, чувствует и переживает общее и личное, внутреннее и внешнее, всемирно-историческое и биографическое становление”1.
Для Шпенглера в современном мире культура сохраняется лишь в крестьянстве, которое подвергается давлению со стороны цивилизации.
“Крестьянство, связанное корнями своими с самой почвой, живущее вне стен больших городов, которые отныне - скептические, практические, искусственные- одни являются представителями цивилизации, это крестьянство уже не идет в счет. “Народом” теперь считается городское население, неорганическая масса, нечто текучее. Крестьянин отнюдь не демократ - ведь это понятие так же есть часть механического городского существования - следовательно, крестьянином пренебрегают, осмеивают, презирают и ненавидят его. После исчезновения старых сословий, дворянства и духовенства, он является единственным органическим человеком, единственным сохранившимся пережитком культуры”2.
Шпенглер называет восемь великих культур: египетскую, вавилонскую, индийскую, китайскую, классическую, или аполлоновскую (греко-римскую), арабскую, или магическую, мексиканскую и западную, или фаустовскую (возникшую около 1000 лет назад н.э.). Он указывает на возможность появления русской великой культуры. Из этих культур мексиканская погибла насильственной смертью, арабская и русская претерпели на ранней стадии развития частичное подавление и разрушение.
Каждая великая культура основана на своем прасимволе, который определяет ее основные черты: образ мысли, характер науки и философии, искусства и верований.
Шпенглер не отвечает на вопрос о причинах возникновения великих и движущих факторов развития культур. По его мнению, принцип причинности не применим к истории, и поэтому рождение великих культур - это всегда необъяснимая тайн выбор, сделанный космическими силами и лежащий вне сферы причинного понимания. Развитие культуры определяется «исторической логикой судьбы».
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Степун Ф. А.
ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И ЗАКАТ ЕВРОПЫ.
Книга Шпенглера не просто книга: не та штампованная форма, в которую ученые последних десятилетий привыкли сносить свои мертвые знания. Она создание если и не великого художника, то все же большого артис-та. Образ совершенной книги Ницше иной раз как бы проносится над ее строками. В ней все, как требовал величайший писатель Германии, «лично пережито и выстрадано», «все ученое впитано глубиной», «все проблемы переведены в чувства», «философские термины заменены словами», «вся она устремлена к катастрофе».
Книга Шпенглера творение — следовательно организм — следовательно живое лицо. Выражение ее лица — выражение страдания.
Двумя непримиримыми противоречиями жива книга Шпенглера. Двумя горькими, трагическими складками пересекают эти противоречия ее умный, ее страстный лоб.
Шпенглер бесконечно учен ; он сам говорит, что сделанное им открытие запоздало потому, что со смерти Лейбница ни один философ не владел всеми методами точного знания. Математика и физика, история религий и политическая история, все искусства, в особенности архитектура и музыка, судьба народов и культур — все это странно сплетаясь, друг с другом, составляет единый предмет Шпенглеровских размышлений.
Эта широкая ученость соединяется в Шпенглере с глубоко осознанной и принципиально провозглашенной антинаучностью философского мышления. Его книга дышит полным
презрением ко всем вопросам современной научной философии, к вопросам методологии и теории знания. Некоторым уважением отмечено разве только имя Канта. Системы Фихте, Гегеля, Шел-линга прямо названы нелепицами. Из новейших мыслителей вскользь и полупрезрительно упоминаются лишь Эйкен и Бергсон. Всего неокантиан-ства для Шпенглера просто не существует: это мертвый остаток некогда живой мысли: профессорствующая философия и философствующие профес-сора.
Кто же подлинные философы 19-го века? Выбор странен и вызывающе привередлив: — Шопенгауэр, Вагнер и Ницше, Маркс и Дюринг, Геббель, Ибсен, Стриндберг и Бернард Шоу.
В свете такой ненаучности большая ученость Шпенглера производит на современный научный взгляд странное впечатление чего-то тщетного, неис-пользованного, неприкаянного, чего-то эмпирически живого, но трансцен-дентально мертвого, какой-то трагически праздной красоты пышных и на-рядных похорон.
К этому первому противоречию Шпенглеровской книги присоединяется второе: Шпенглер выраженный скептик, понятия абсолютной истины для него не существует. Абсолютная истина — абсолютная ложь, пустой лжи-вый звук. Идеи так же смертны, как души и организмы. Истины математики и логики так же относительны, как биологии и богословия. Трансценден-тальная вечность знания так же химерична, как вечность трансцендентного бытия.
Но безусловный скептик, Шпенглер одновременно мужественный пророк. Содержание его пророчества — смерть европейской культуры. Пройдет немного столетий и на земном шаре не останется ни одного немца, англича-нина и француза, как во время Юстиниана не было больше ни одного рим-лянина.
Пророк — скептик, возможно ли более противоречивое сочетание? Разве пророк не всегда посланник вечности и бытия? Разве без ощущения вечного бытия в груди возможен пророческий голос? Возникает вопрос: быть может Шпенглер вовсе не пророк, а только пациент современной Ев-ропы в безответственно взятой на себя роли пророка.
Состояние, в котором Шпенглер пишет свою книгу — чув-
ство одержи-мости своим открытием. Он убежден, что говорит вещи, которые никому не снились, никогда никому не приходили на ум, что он ставит проблему, кото-рую в ее немом величии еще никто никогда не чувствовал, что он высказы-вает мысли, которые до него никем еще не были осознаны, но в будущем не-избежно заполнят сознание всего человечества. Книга Шпенглера безуслов-но книга подлинного пафоса временами, однако, досадно опускающегося до некоторой личной заносчивости, почти надменности.
Настроение, которое остается от нее, настроение тяжести и мрака. «Умирая, античный мир не знал, что он умирает, и потому наслаждался каждым предсмертным днем, как подарком богов. Но наш дар — дар предвиде-ния своей неизбежной судьбы. Мы будем умирать сознательно, сопровож-дая каждую стадию своего разложения острым взором опытного врача». Вот строки, которые я избрал бы эпиграфом эмоционального содержания «Зака-та Европы». Помещенные в конце книги, скупой на всякую откровенную ли-рику, они производят сильное впечатление безнадежной горечи, но и спо-койной гордости.
В основе «Заката Европы» не лежит аппарата понятий, в основе его лежит организм слов. Понятие — мертвый кристалл мысли, слово ее живой цветок. Понятие всегда одномысленно, самотождественно и раз на-всегда определено в своей логической емкости. Слово всегда многомысленно, неуловимо, всегда заново нагружено новым содержанием.
«Закат Европы» сработан Шпенглером не из понятий, но из слов, которые должны быть читателем прочувствованы, пережиты, увидены. Слов этих в «Закате Европы» в сущности очень немного.
Каждое бодрствующее сознание различает в себе «свое» и «чужое». Все философские термины указывают по Шпенглеру на эту основную противо-положность. Кантовское «явление», Фихтевское «я», «воля» Шопенгауэра — вот термины, нащупывающие в сознании некое «свое». «Вещь же в себе», «не я», «мир как представление», указывают, наоборот, на некое «чужое» нашего сознания.
Шпенглер не любит терминов и потому он покрывает различие «своего» и «чужого» многомысленной противополож-
ностью многомысленных слов, называя свое — «душою», а чужое — «миром».
На слово «души» наслояется затем Шпенглером слово «становление », а на слово мир слово «ставшее». Так слагаются два полюса, — полюс становления души и полюс ставшего мира. Мир возможностей и мир осуществленностей.
Между ними жизнь, как осуществление возможностей.
Вслушиваясь затем в природу становящегося мира, Шпенглер чувствует его таинственно наделенным признаком направления , тем несказуемым в сущности признаком, который на всех высоко развитых языках был указуем термином «время». Сращивая, таким образом, время со становящеюся жиз-нью, Шпенглер в противоположном полюсе сознания, в полюсе «чужого», сращивает ставший мир с пространством, ощущая пространство, как «мерт-вое время», как смерть. Так ветвится в «Закате Европы» организм роковых для Шпенглера слов. Слова эти, взятые вместе, составляют не терминоло-гию Шпенглера (терминологии у него нет), но некоторую условную сиг-нализацию.
Что такое время? — Шпенглер отвечает: «время не форма познания, все философские ответы мнимы. Время — это жизнь, направленность, стремле-ние, тоска, подвижность».
Что такое причинность? — мертвая судьба. Что такое судьба? — органическая логика бытия. Вот таким способом сигнализует Шпенглер в душу читателя о том, что он знает о жизни, мире и познании.
Вот метод Шпенглера: он нигде не показан, так сказать, в голом виде. В «Закате Европы» нет главы, специально посвященной его раскрытию: описанию и защите. Он явлен в книге Шпенглера весьма своеобразно, как живая сила, которой, в виду ее очевидной работоспособности, не зачем отчитывать-ся и оправдываться. Это осиливание скупо развитым и глубоко схоронен-ным методом тяжелых масс Шпенглеровского знания, придает всей книге впечатление легкости и динамичности. Такова в общих чертах гносеология Шпенглера. Перейдем теперь к его методологии, к установлению различия между природой и историей.
К «чужому» моего сознания, т.е. к миру, я могу отнестись двояко. Я могу избрать детерминантою моего отношения или
становление, направлен-ность, время, — или ставшее, протяженность, пространство.
В первом случае я как бы возвращаю мир себе в душу — получаю историю. Во втором — наоборот: я навек закрепляю дистанцию между душою и миром и получаю природу.
История есть мир цветущий в образе. Таким знали мир Платон, Рембрандт, Гёте.
Природа — есть мир, увядший в понятии.
Созерцать — значит добывать из мира историю.
Познавать — значит добывать из мира природу.
Природа живет в понятии, в законе, в числе, в причинности, в простран-стве.
История всецело покоится по ту сторону всех этих понятий, по ту сторо-ну всякой науки.
Научный подход к истории является потому для Шпенглера методологи-ческой бессмыслицей. В истории нельзя искать не только законов, но и никаких причинных рядов. Историю нужно творить. Все остальные точки зре-ния не чистые решения вопроса.
Всякое природоведение завершается научной систематикой.
Всякое историческое постижение завершается «физиономикой ».
Шпенглер убежден, что будущее принадлежит открытой им физиономи-ке, что через сто лет все науки превратятся в куски единой физиономики.
Что же такое эта Шпенглеровская физиономика?
Ответ на этот вопрос дан Шпенглером двойным образом: очень скупым теоретическим определением физиономики, и очень обстоятельным применением ее.
В конце концов, Шпенглеровская физиономика — артистическая практика духовного портретирования. Шпенглер берет науку, искусство, рели-гию, политику, быт, пейзаж, определенной эпохи и, освобождая все эти цен-ности от ярма объективной сверхисторической значимости, рассматривает их исключительно как символические образы переживаний портретир уемой им исторической души. В результате применения этого метода, религия, философия, наука, как таковые, т.е. как некие преемственно развивающиеся, одним народом завещаемые другому ценностные ряды, решительно уни-
что-жаются Шпенглером. Всякая религиозная догма, всякое философское утверждение, всякий эстетический образ, всякая математическая формула — все эти разнообразнейшие закрепления истины, ощущаются и раскрываются Шпенглером, как иероглифы народных душ и судеб.
Писать историю, как философ, говорит Шпенглер, значит писать ее так, как Шекспир писал трагедии своих героев. Историк-физиономист — био-граф отдельных культур, т.е. отдельных духовных организмов. Мыслить по-тому в качестве историка-физиономиста какие-то сквозные, т.е. сквозь все народы и эпохи, проходящие логические или эстетические ценности, мыс-лить какую-то единую философию, единую логику, или хотя бы объектив-ную единую математику, — значит обезличивать индивидуальные образы отдельных культур мертвыми схемами вымышленных общезначимостей.
Вдумываясь в гносеологические и методологические утверждения Шпенглера, нельзя воздержаться от впечатления их крайнего субъективиз-ма, от попытки отнестись к Шпенглеру, как к явному релятивисту.
И действительно: многосмысленные слова вместо односмысленных понятий, сигнализация вместо терминологии, разве это может не вести философа к релятивизму? Но релятивизм Шпенглера коренится еще глубже. В каждом сознании Шпенглер отличает душу и чужое этой душе, т.е. — мир. Душа у каждого своя, потому и чужое этой души у каждого свое. Это зна-чит что у каждого свой мир. Шпенглер так и говорит: «есть столько миров, сколько людей». Но если у каждого свой мир, то ясно, что и оба производ-ных этого мира, история и природа у каждой духовной индивидуальности: у человека, народа, семьи народов, у всякой эпохи, у всякой культуры свои. И действительно, цитируя Гёте, Шпенглер утверждает, что об истории никто не может судить, кто сам в себе не переживет истории.
Заостряя Шпенглера до последнего предела, можно правомерно утверж-дать, что для каждой души всемирная история есть в конце-концов ни что иное, как история ее же собственной судьбы.
Однако этими размышлениями релятивизм Шпенглера еще не исчерпан до конца. Он потенцируется в утверждении,
что субъективно не только переживание мира, но и всякое творческое закрепление этого переживания, что никакие образы искусства и никакие научные законы не вчленимы ни в какие сверхдушевные значимости и исчерпывают свой последний смысл в качестве символов этой душевности, разделяя участь всего живого — смерть.
Ошибка всех историков, их субъективная аберрация, заключается по Шпенглеру прежде всего в том, что все они писали историю с точки зрения современного человека, деля ее в связи с этим на совершенно несоизмери-мые по удельному весу куски древности, средневековья и нового времени, постигая то великое, что было, через то малое, к чему оно будто бы привело. Задача Шпенглера — покинуть эту птолемеевскую точку зрения, стать Коперником от истории, перестать вращать историю вокруг мнимого центра западно-европейского мира, обрести по отношению к ней пафос дистанции, взглянуть на все явления истории, как на горную цепь на горизонте, взглянуть на нее взором беспристрастного божества.
Однако Шпенглер защищает не только объективность такой своей духовной ситуации по отношению к истории, он претендует еще и на объективность применяемого им метода объективного созерцания. Что такое объ-ективное созерцание, Шпенглер по существу и строго нигде не говорит, но он везде противополагает его субъективному рассмотрению и отвлеченному размышлению. В конце концов объективное созерцание сводится им к про-зрению идей в явлениях и прозрению родства среди идей, к своеобразной Гётеански окрашенной практике феноменологического созерцания. Особен-но существенно в «Закате Европы» и характерно для Шпенглера провидение внутреннего духовного сродства между душами или идеями явлений: эпоха-ми, культурами, народами, личностями. На протяжении всей своей книги Шпенглер непрерывно аналогизирует, тщательно противополагая свои объ-ективные, морфологически точные уподобления по-
верхностному импресси-онизму так называемых исторических сравнений и параллелей.
Для него бессмысленно, например, сближение буддизма и христианства, или Гёте и Шиллера, но обязательно утверждение морфологического родст-ва буддизма и социализма в противовес христианству, Гёте и Платона в про-тивовес Шиллеру.
Таковы притязания кажущегося релятивиста Шпенглера на объективность своего — объективного ли? — созерцания.
Шпенглер всматривается в темнеющие дали истории: бесконечное мель-кание бесконечно нарождающихся и умирающих форм, тысячи красок и огней, разгорающихся и потухающих, свободная игра свободнейших случайностей. Но мало помалу глаз начинает привыкать и выступает второй, более устойчи вый исторический план. В гнездах определенных ландшафтов (Шпенглер любит слово ландшафт и все время говорит о духовных, душевных и музыкальных ландшафтах) на берегу Средиземного моря, в долине Нила, в просторах Азии, на средне-европейских равнинах рождаются души великих культур. Родившись, каждая из них восходит к своей весне и свое-му лету, спускается к своей осени и умирает своею зимою. Этому роковому кругу жизни внешней соответствует столь же роковой круг внутренней жизни духа. Душа каждой эпохи неизбежно совершает свой круг от жизни к смерти, от культуры к цивилизации.
Противоположность культуры и цивилизации — главная ось всех Шпенглеровских размышлений. Культура, — это могущественное творчество со-зревающей души, — рождение мифа, как выражения нового богочувствования, — расцвет высокого искусства, исполненного глубокой символической необхо-димости, — имманентное действие государственной идеи среди группы наро-дов, объединенных единообразным мирочувствованием и единством жиз-ненного стиля.
Цивилизация — это умирание созидающих энергий в душе; проблематизм мирочувствования; замена вопросов религиозного и метафизического характера вопросами этики и жизненной практики. В искусстве — распад монументальных форм, быстрая смена чужих входящих в моду стилей, рос-кошь, привычка и спорт. В политике — превращение народных организ-
мов в практически заинтересованные массы, господство механизма и космопо-литизма, победа мировых городов над деревенскими далями, власть четвер-того сословия.
Цивилизация представляет собою, таким образом, по Шпенглеру неизбежную форму смерти каждой изжившей себя культуры. Смерть мифа в без-верии, живого творчества в мертвой работе, космического разума в практи-ческом рассудке, нации в интернационале, организма в механизме.
Судьбы культур аналогичны, но души культур бесконечно различны. Каждая культура, как Сатурн кольцом, опоясана своим роковым одиночеством.
«Нет бессмертных творений. Последний орган и последняя скрипка будут когда-нибудь расщеплены; чарующий мир наших сонат и наших trio , всего только несколько лет тому назад нами, но и только для нас рожден-ный, замолкнет и исчезнет. Высочайшие достижения Бетховенской мелоди-ки и гармонии покажутся будущим культурам идиотическим карканьем странных инструментов. Скорее, чем успеют истлеть полотна Рембрандта и Тициана переведутся те последние души, для которых эти полотна будут чем то большим, чем цветными лоскутами.
«Кто понимает сейчас греческую лирику? Кто знает, кто чувствует что она значила для людей античного мира?»
Никто не знает, никто не чувствует. Нет никакого единого человечества, нет единой истории, нет развития, нет и прогресса.
Есть только скорбная аналогия круговращения от жизни к смерти, от культуры к цивилизации.
Очевидно, что только что воспроизведенные утверждения Шпенглера предельно заостряют все уже вышеуказанные противоречия его мысли. Творения каждой культуры понятны только в ее собственной атмосфере, только среди объединенных ею людей. Для будущих культур Бетховенская мелоди-ка будет идиотическим карканьем. Греческую лирику сейчас никто не пони-мает. Такова теория. Но что делает сам Шпенглер в своей книге? Он портре-тирует арабскую, индусскую, египетскую и античную культуры. Портрети-рует мужественно и страстно, без тени скептицизма, без малейшего сомне-ния в сходстве создаваемых портретов.
Разрешить это противоречие за Шпенглера, очевидно, нельзя, но искать таковое разрешение у него можно, и можно в двух противоположных направлениях: в направлении мистическом и в направлении скептического ре-лятивизма.
Скептически-релятивистическое разрешение заключалось бы в неожиданном для Шпенглера признании, что его проникновение в души древних культур, является в сущности проникновением иллюзорным, не размыкаю-щим по настоящему одиночества его западно-европейской души. Оно за-ключалось бы в утверждении, что познавая Грецию, Египет и Индию, Шпенглер в конце концов своими химерическим гаданиями об этих культурах реально познает только свою собственную душу европейца двадцатого века.
Такое релятивистическое трактование Шпенглера сводилось бы к мысли, что постижение по аналогии не ведет дальше постижения одной аналогии. Утверждая, что фрески Полигнота относятся к скульптуре Поликлета, так же как портреты Рембрандта к музыке Баха, мы проникаем в душу античного искусства, в сущности не глубже, чем в природу зеркала, в кото-ром рассматриваем самих себя. Все эти наши Греции, Индии, Египты, все это только наши тени, нами же созданные призраки. Но жизнь среди призра-ков не есть ли самая одинокая жизнь? Но если так, почему же Шпенглер так страстно отдается изучению умерших культур, отошедших миров! Очевид-но потому, что он любит эти миры, эти культуры, и все еще не верит в иллю-зионизм своей любви, мнящей владеть предметом, но владеющей только своею мечтою о нем. Романтик иллюзионист , не разгадавший этой своей природы, вот первый облик Шпенглера в котором психологически разре-шимы противоречия его книги, если акцентуировать ее релятивистические мотивы.
Но возможна попытка додумать Шпенглера до конца и в другом направ-лении, в направлении мистическом. Есть в «Закате Европы» одинокие, глу-хие места, в которых Шпенглер, оговариваясь, что здесь мистерия, боящаяся слов, говорит о мировой душе (Urseclentum ), отпускающей к жизни души вселенских культур и принимающей их обратно в свое лоно по свершении ими своих путей. В этой мировой душе все вечно пребывает; в ней и по ныне жи-
вы потерянные трагедии Эсхила, не как созданные формы, не как телес-ные вещи, не для дневного сознания человечества, но как-то иначе, в какой-то несказуемой, неразрушимой первосущности. Этими прозрениями Шпен-глер прокладывает в сущности путь к утверждению всего того, что он вся-чески отрицает, к утверждению единого человечества, единой истории и прозрачности всякого ты, для всякого я. Пойди он этим путем и все противоречия его системы разрешились бы в образе мистика-гностика. Однако, Шпенглер только видит этот путь, но идти им он не идет.
Но Шпенглер вообще никуда не идет и никуда не ведет; он убежденно стоит на перекрестке многих путей, стягивая в роковой узел своего многосмысленного существа все противоборствующие мотивы современности. Он не только романтик иллюзионист вчерашнего дня, и не только мистик-гностик вечного дня человечества, он кроме того еще и современный человек, отравленный всеми ядами европейской цивилизации. Разгадав с пророчес-кою силою образ этой цивилизации, как образ уготовленной Европе смерти, он в каком-то смысле все же остался ее мечом и ее песнью. Он вериг, что в каждом собрании акционеров большого предприятия вращается несоизмеримо больше ума и таланта, чем во всех современных художниках, взятых вместе. Он мечтает о том, что его книга совратит не одного юношу с путей бессмыслен-ного и невозможного ныне служения музам, превратив его в инженера или химика. Он твердо знает, что Европе осталось одно — смерть; что в Европе возможна только цивилизация и не возможна культура, и потому он с каким-то своим римско-прусским вкусом к доблести воина и мужа требует от со-временного человека навстречу смерти открытых объятий, безропотного служения цивилизации и полного воздержания от разлагающих душу смерт-ника юношеских мечтаний, воздержания от искусства, философии, творче-ства.
На три знакомых лица — романтика, мистика и человека современной цивилизации расслояется, таким образом, своеобразный образ Шпенглера при первой же попытке уничтожить противоречия его концепции. Это значит, что ори-
гинальность Шпенглера, как мыслителя, жива, прежде всего, противоречиями его мысли.
Прекрасно чувствуя это инстинктом большого артиста, Шпенглер нигде в своей книге даже и не пытается логически выправить своих построений, разрешить основное противоречие того, что он утверждает как скептик-релятивист и того, что он создает как интуитивист-мистик.
Книга его убежденно и глубокомысленно смотрит в душу читателя характернейшею некоординированностью своих противоречий, как Рафаэлев-ский портрет d ’ inghirami . Смотрит в мир своими раскосыми глазами.
В этом ее своеобразная художественная правда, ее глубина и выразительность.
Дав общую характеристику Шпенглера как мыслителя и артиста, попро-буем несколько ближе присмотреться к его изумительной по глубине интуи-ции и техническому мастерству работе историка физиономиста. Выберем с этой целью две наиболее завершенные работы Шпенглера, портреты аполлинической души Греции и души западно-европейской культуры, по Шпен-глеру фаустовской души, и постараемся дать с них уменьшенные и схемати-зированные, но по возможности все же тщательные копии.
Античная Греция — это расчлененное бухтами, реками и горами побережье, это изолированные тела островов Эгейского моря.
Этот стиль материнского ландшафта таинственно передался стилю всей античной культуры. Для древнего грека мир — сумма отдельных тел, изоли-рованных вещей. Того, в чем эти тела для нас находятся и чем они для нас объединяются, единого, бесконечного пространства, из которого по Канту можно отмыслить все тела, но которое нельзя перестать себе представлять, для античного человека просто не существует. Для античного человека, для аполлинической души бесконечное пространство то, чего нет. Для него ре-альны только тела. Это так для античной математики и так для античного искусства.
Пифагорейское число, лежащее в основе всех вещей, не что иное, как мера и пропорция, как чувственная плоскость античной статуи голого человека. Античное число и античная скульптура означают страстное обращение аполлинической души ко всякому «здесь» и «сейчас».
Пафос дали, пафос бесконечности абсолютно чужд аполлинической душе, потому античная математика никогда не могла бы принять концепции иррационального числа. Иррациональное число является расторжением связи между числом и телом и созданием связи между числом и бесконеч-ностью. Поздний миф рассказывает о гибели человека, открывшего ирраци-ональное начало. Этот миф исполнен величайшего страха аполлинической души перед далью и бесконечностью.
Страх дали постоянно мешал грекам расширять свои крохотные государства. Он постоянно держал их паруса недалеко от побережий. Открытого моря они не любили, как любили его египтяне и финикияне. Они не строили дорог, боялись перспектив убегающих вдаль аллей, как образа непонятной и враждебной им бесконечности.
В Афинах Перикла было запрещено распространять астрономические теории. В них никогда не возвышалась обсервационная башня. Ни один из греческих философов не имел собственных мыслей о звездных мирах. Египетская, Вавилонская, Арабская культуры постоянно мучились над разреше-нием астрономических вопросов. Античный же человек все время жил без единого взора в бесконечное пространство, всецело сосредоточенный на своем евклидовском бытие. Что земля шар, повисающий в бесконечном про-странстве было не раз доказано грекам. Уже Пифагор знал эту истину. Но мысль эта была чужда и враждебна аполлинической душе, и потому она упорно забывалась; ее забывали, потому что ее не хотели знать.
Даль, бесконечность всюду и всегда враждебны аполлинической душе, потому она строит свою математику без понятия пространства, свою физику без понятия силы и психологию без понятия воли.
Античные боги — идеальные человеческие тела; место их пребывания видимый, географически-реальный Олимп; куль-
ты связаны с определенны-ми местностями; боги, прежде всего, боги городов, домов, полей.
Догмы не важны: они живут в бесконечных просторах мысли. За искажение догмы античный закон никогда никого не преследовал. Важны и обя-зательны культы: видимости, чувственные акты. Характерно что античность не знала богов звезд. Гелиос поэтическая метафора, не больше. Бога Гелиоса не было; Гелиос не имел своего храма, своей статуи, своего культа. Так же и Селена не богиня луны.
Отсутствие чувства пространства как образа дали — основная черта античного искусства. Никогда ни в Коринфе, ни в Афинах, ни в Сикионе не было написано пейзажа с изображением гор, облаков, дали. Тема горизонта не тема античной живописи. Краски античной палитры: черная, желтая, красная, белая — краски земли, тела, крови. Нет голубого, зеленого — кра-сок дали, красок небес и зеленеющих полей. Не живопись, но скульптура — верховное искусство аполлинической души. Искусство, изображающее прежде всего уединенное тело, для которого границы мира совпадают с границами его самого. Как характерно, что классическая античная скульптура уравнивает по пластической трактовке лицо и тело, превращая лицо всего только в одну из частей тела, игнорируя в нем судьбу и характер, — эти фе-номены духовной бесконечности, столь важные в искусстве Тициана, Рем-брандта и Шекспира. Не знает античная скульптура и изображения зрачка. Зрачок превращает глаз во взор; но взор — это глаз, брошенный вдаль. Античность же боится дали. Античная скульптура одинокое тело. Взор же как бы общение скульптурного изображения со зрителем, общение в еди-ном для обоих пространстве. Но античность не знает единого пространства, в котором находятся все тела, она знает только всегда индивидуальное про-странство, живущее в каждом из тел. Законы скульптуры аполлиническая душа естественно распространяет и на все другие виды искусств.
Закон античной трагедии, закон единства времени, действия и места сводится в конце концов к единству места, т.е. к закону пластической статуарности.
Античная сцена — плоская сцена; она боится глубины и не знает перспективного пейзажа в качестве задника. От-
дельные сцены античной траге-дии всегда задуманы, как сменяющиеся фрески. Этой внешней статуарности строго соответствует статуарность внутренняя. Античная трагедия в отли-чие от трагедии Шекспира и всей новой трагедии, не трагедия характера, но трагедия ситуации. В ней герой не слагается, но в сущности только раскры-вается. Она требует от него не столько борьбы с судьбой, сколько последо-вательного поведения, определенного идеалом душевной пластичности. Как античная этика она проповедует человека как статую и ценит возвышенный жест. Эдип говоря о себе неоднократно употребляет то же слово (σομα ) сома, каким математики называют предметы своего изучения — тела. Он го-ворит, что оракул вещал его телу, что Креонт причинил зло его телу. Его трагическое самоощущение является ощущением себя как живой статуи, как прекрасного тела, которое судьба задумала разрушить. Античная концепция судьбы — концепция чисто Евклидовская; она не означает неотврати мой ло-гики внутреннего становления человеческого духа в борьбе с жизнью, но лишь внезапное вторжение в эту жизнь слепого жестокого случая. Случай этот может отнять у героя трагедии жизнь, но он не властен над достоин-ством и красотой его последней позы, его, и в смерти осуществимого еще пластического идеала.
Не зная дали пространства и дали судьбы, античность не знает и третьей дали, дали времени. Она обходится без часов и на ее фресках ни одна де-таль не поможет определить зрителю высоты солнцестояния: нет тени, нет звезд, господствует вечный вневременный свет.
Вне чувства времени нет и внутреннего строя заботы. В то время как египтяне бальзамируют своих покойников, греки сжигают своих мертвецов. Аполлиническая душа Греции — это телесность, статичность, природность, законченность, это мир, чуждый всякой динамике и истории, всякому поры-ву к бесконечному, безграничному и потустороннему.
Полную противоположность аполлинической душе древней Греции представляет собой умирающая ныне, по Шпенглеру фаустовская душа западно-европейской культуры. Душа эта родилась в X-м столетии вместе с ро-манским стилем в северных равнинах между Эльбой и Тахо, что задолго
до того, как в них вступила нога первого христианина, жили тоской по бесконечности. Как вся культура Антики родилась из ощущения измеряемого тела, так из чувства бесконечного пространства родилась культура Фаустовской души. Не унаследованную античную геометрию углубил и продолжил Декарт, но независимо от нее создал совершенно новое учение, порывавшее античную связь числа и тела и создававшее невозможную в аполлинической душе связь числа и бесконечности.
Символический смысл Декартовской геометрии тождественен по Шпен-глеру с символическим смыслом Кантовской трансцендентальной эстетики. И тут и там ощущение бесконечного пространства, как основы всего конечно существующего. И тут и там безграничный фаустовский порыв.
Ощущение мира, как совокупности тел естественно рождало политеизм аполлинической культуры. Ощущение единого бесконечного пространства столь же естественно рождает монотеизм фаустовской души.
В античности постепенное распыление богов: для римлянина Юпитер Латиарский и Юпитер Феретрийский — два разных бога. В фаустовской душе наоборот, постепенное собирание Бога. Чем больше созревает фаустовский мир, тем определеннее меркнет магическая полнота небесных ие-рархий. Ангелы, святые и три лица Божества постепенно бледнеют в образе Единого Бога; ощущение Бога все больше сливается с ощущением бесконеч-ного пространства, все крепче связывается с ощущением бесконечного оди-ночества фаустовской души затерянной в бесконечном пространстве. Образ дьявола тоже бледнеет. Еще Лютер запустил в него своею чернильницей, но протестантские богословы о дьяволе стыдливо умалчивают. Он несовмес-тим с одиночеством фаустовской души, с ощущением бесконечного про-странства и Единого Бога; Единый Бог одинокий Бог, при нем не мыслим дьявол, как его сосед и собеседник.
Ясно, что мироощущение фаустовской души не могло раскрыться в античном искусстве, в пластике, что оно должно было создать совершенно иные формы эстетического самоутверждения: эти формы, формы контрапунктической музыки.
Однако музыка фаустовской души не сразу нашла себя в
великой евро-пейской музыке: перед тем как зазвучать музыкой Глюка, Баха и Бетховена, она должна была прозвучать музыкой готических соборов, музыкой судьбы в портретах Рембрандта и Тициана.
Еще Гёте, увидя Страсбургский собор, назвал готику застывшей музыкой. Шпенглер подробно развивает это сравнение. Готический собор — весь му-зыкальный порыв к бесконечности. Музыкой бесконечности дышит взлет его башен, музыкой бесконечности бег пилястр от главного входа к дале-кому алтарю. Пространство под сводами готического собора дышит желани-ем разомкнуть эти своды, раздвинуть стены и слить свое дыхание с божьим дыханием единого бесконечного пространства. Своды готического собора живут предчувствием той контрапунктической музыки, что со временем вознесется к ним и замрет под ними.
Орнамент готический отрицает мертвую субстанцию камня и жутко перерождая растения в тела животных и людей, превращает линии в мелодии, фасады в многоголосные фуги и тела статуй в музыку складок.
Живопись громадных цветных окон дематериализует массивы каменных стен: образы ее словно повисают в просторах, дыша свободою звуков органа.
Так раскрываются в готической архитектуре формы контрапунктической музыки. Это утверждение для Шпенглера больше чем удачное сравне-ние. В нем основная эстетическая мысль Шпенглера, что разграничивать ис-кусства по материальным признакам и в связи с органами восприятия, явная методологическая незакономерность. Такой подход означает страш-ную переоценку техники и физиологии. Совершенно незакономерное внесе-ние природы в историю.
Рисунки Рафаэля, представляющие собою линии и очертания, принадле-жат по Шпенглеру к совершенно другому роду искусства, чем рисунки Ти-циана: пятна света и тени. Ватто объединяется Шпенглером с Бахом и Купе-реном и противополагается Рафаэлю.
Инструментальная музыка и живопись после 1720 г. являются по его мнению по форме тождественными искусствами: их формы — формы аналитической геометрии.
После бессильной попытки Возрождения задержать само-
стоятельность эстетического воплощения фаустовской души, начинается углубленное раз-витие фаустовской живописи. Она решительно освобождается от опеки скульптуры и становится под знак полифонической музыки, подчиняя ис-кусство кисти стилю фуги.
Фон как феномен дали, горизонта, как голос бесконечного пространства впервые становится содержанием пейзажной живописи. В полотнах Рем-брандта в сущности вообще исчезает передний план.
Облака. Античное искусство вообще не изображало облаков. Классичес-кое возрождение трактовало их поверхностно декоративно. У венецианцев Джорджоне и Веронезе начинаются правда, постижения их символики. Но только нидерландцы возносят их изображение на подлинно трагическую вы-соту.
Парки барокко и рококо. Больше парки XVII столетия. Не тою же ли они исполнены тоской, что и нидерландская живопись « Point de vue », от-куда глазу открываются тоской по бесконечности звучащие просторы, вот их внутренняя форма, их эстетический закон. К point de vue , отсутству-ющему в садах Китая и парках Возрождения, но присутствующему в свет-лых звуках пасторалей ХV III века, сбегаются все аллеи, волнующие душу своим перспективным сужением, своим быстрым свертыванием в окрылен-ную далями точку.
Желание остаться наедине со своим Богом, наедине с бесконечным про-странством — в этом тоска фаустовской души, которою дышит великое ис-кусство Ленотра: парки рококо и барокко, воспетые Бодлэром, Верлэном и Дроёмом, парки тоски по бесконечному, но и чувства близящегося конца, парки закатов и наступающих сумерек, скорбные, поздние парки медленно падающей и шуршащей под ногами листвы.
Дали, просторы, горизонты — все это голоса бесконечности внешней; — чем более, однако, вызревает фаустовская душа, тем страстнее отдается она чувству бесконечности внутренней, ощущению вечности.
Портреты XVII столетия, прежде всего портреты Тициана и Рембрандта, живут ощущением этой вечности, они изображают человека не так, как его изображала античность,
не как внешнее, природное лицо, но как внутренне становящуюся личность. В портретах Рембрандта постоянно звучит великая тема судьбы человека. Они исполнены музыки вечности.
Портрет — характернейшая эстетическая категория фаустовского творчества. Фаустовский портрет всегда автопортрет. Все великие портреты фа-устовского искусства: Парсифаль, Фауст, Гамлет — исповеди, биографии, автопортреты. Исповедь была введена в церкви в IX столетии. Окончательно установлена в 1215 году. Х VIII столетие эпоха дневников, писем, автобиографий, исповедей. Эпоха предельного поклонения фаустовского искус-ства от искусства аполлинической души. Нельзя представить себе автопо-ртрета Скопаса и нельзя не мыслить нового искусства иначе, как в образе постоянно переписываемого автопортрета фаустовской души.
И все же портрет не высшее ее выявление. После открытия Ньютоном и Лейбницем дифференциального счисления, этой глубочайшей формулы фаустовской души, умирают последние великие живописцы. В 1660 — Веласкез, в 1665 — Пуссен, в 1666 — Гальс, в 1669 — Рембрандт, в 1681 — Рюисдаль и Лоррен. Ватто и Гогарт — уже падение. Почти одновременно в 1685 г. рождаются Бах и Гендель вместе с которыми вырастают Стамиц, Корелли, Тартини и Скарлатти. Контрапунктическая музыка расцветает в великое искусство фаустовской души.
Куда же девает, однако, Шпенглер импрессионизм XIX столетия? Ответ его суров, но определенен. Это эпизод не идущий в счет. «Материализм мировых столиц продышал холодом над прахом мертво-го искусства и вызвал позднее цветение живописи в пределах двух поколе-ний от Делакруа до Сезанна; живописи мертвой и холодной, отвергшей в пленеризме под именем "коричневого соуса" высокую символику бронзово-зеленых и коричневых тонов Грюневальда, Лоррена и Рембрандта, отдавшей свои силы изображению пространства не пережитого, но изученного и высчитанного, живописи, быть может, и возвращающейся к природе, но толь-ко так, как возвращается к ней старик, сходящий в могилу.
Музыка, и, прежде всего, быть может, музыка Баха остается, таким образом, непревзойденною вершиной фаустовского искусства. Уже с Бетхове-на начинаются признаки ее падения. Гендель был прав, обвиняя Бетховена в неверии. Бетховен романтик, романтическая нерелигиозность всюду и всегда, как в Александрии, так и в кругах Тика и Шлегелей была лишь утон-ченною религиозно-стилизованною формою тайного неверия. По сравнению с Бетховеном Вагнер представляет собою еще более глубокую степень куль-турного decadence ’а Европы. В Тристане умирает последнее фаустовское искусство — музыка.
Смерть европейской музыки — верный симптом начала конца: гибели европейской культуры, сопровождаемой расцветом цивилизации.
Сущность всякой цивилизации в атеизме: в умирании мифа, в распадении форм символического искусства, в замене вопросов метафизики вопро-сами этическими и практическими, в механизации жизни. Все эти мотивы явно присутствуют в господствующих течениях современной мысли: — в дарвинизме и социализме.
Несмотря на провозглашенный Кантом примат практического разума, мироощущение Канта насквозь космично и метафизично. Несмотря на глубочайшее отрицание воли Шопенгауэром, его система все-таки насквозь этична; так как, хотя и отрицаемая воля (принцип этики) все же лежит в основе его мироощущения. Задрапированная в ткани кантианства и восточной мудрости, система Шопенгауэра все же является предвосхищением дарви-низма. Борьба с природой и самоутверждение индивида, интеллектуализм, как фактор этой борьбы, половая любовь, как биологический интерес — все эти элементы дарвинизма явно присутствуют у Шопенгауэра уже в его «Воле в Природе». В системе Шопенгауэра человек как-бы сосредотачивает-ся на самом себе.
Отрицаемая Шопенгауэром воля к жизни является у Ницше объектом страстного утверждения. Еще живой у Шопенгауэра интерес к вопросам метафизики становится
для Ницше предметом ненависти. Разрыв Ницше с Вагнером — это последнее великое событие в духовной жизни Германии — оз-начает со стороны Ницше предательство Шопенгауэра Дарвину.
В «Шопенгауэре воспитателе» Ницше еще понимает жизнь, как органическое вызревание; впоследствии он понимает ее как механическое взращи-вание, как борьбу за существование.
Эта подмена смысла слова жизнь превращает Ницше в дарвиниста, которого договаривает Бернард Шоу, превращающий с мужеством безвку-сия, нехватавшего Ницше, проблему развития человечества в разветвление проблемы животноводства.
Так перерождается в философии XIX века идея великого порыва фаустовской души к бесконечному в программу бескрылого продвижения на бесконечных путях эволюции. В этом перерождении религиозный вертикал фаустовской души, вокруг которого строилась и вращалась европейская культура, пре-вращается в горизонтально расположенную атеистическую ось европейской цивилизации. Мертвою маскою фаустовского пафоса дали смотрит на нас господствующая ныне вера в бесконечную эволюцию и социалистический прогресс. Вера эта — не вера: она только механический остаток умершей фаустовской веры в бесконечное пространство, в бесконечность времени и судьбы.
Слепы мечты о родстве христианства и социализма. Всякий дух гуманности и сострадания чужд социализму. В основе социализма лежит дурная бесконечность воли к власти во имя власти. В основе его лежит изуродован-ная фаустовская « am Anfang war die Tat »; не творчество, но труп творчест-ва — мертвая работа. В социалистическом мире не будет творчества и не будет свободы. Все будут повелевать всеми и все будут механически рабо-тать на всех. Силою природного закона будет всех давить и угн етать воля большинства. Так в странном оцепенении, в своеобразном китайском окос-тенении встрети т высоко цивилизованная Европа уже приближающуюся к ней смерть.
Конкретизировав предложенными копиями Шпенглеровских портретов аполлинистической и фаустовской души, его образ
артиста-мыслителя, мы должны еще дополнить этот образ более точным представлением о форме, размерах и цельности всей выполненной Шпенглером работы.
Шпенглер мистик, романтик и скептик, но Шпенглер не импрессионист. «Закат Европы» — изумительное по цельности, емкости и конструк-тивности творение. В глубоком соответствии с убеждением автора, что под-линно фаустовское искусство, контрапунктическая музыка, его книга, эта последняя возможная философия умирающей Европы, поставлена им под знак формы контрапункта.
В ней три основные темы: тема истории, как физиономики, тема отдель-ных культур, — индусской, египетской, арабской, аполлинической, фаустов-ской и отчасти китайской, — и тема скорбной аналогии их круговращения от весны к зиме, от культуры к цивилизации, от жизни к смерти.
Не составляя мертвого содержания искусственных глав, темы эти, как нити живой музыкальной ткани, все время звучат сквозь все главы, по очереди уступая друг другу первенство голосоведения, по очереди пропадая в немой глубине книги. Тема трагической судьбы каждой культуры, тема предопределенного в ней круга: весна, лето, осень, зима проводится Шпенглером сквозь души всех культур и зорко выслеживается им во всех разветвлениях человеческого творчества и природного бытия — в религии, философии, искусстве, науке, технике, быте и пейзаже. Из всех получающихся, таким образом, аналогий, параллелей, связей, перекличек и противо-положностей вырастает, в конце концов, бесконечно сложный и богатый, строгий и стройный мир «Заката Европы», этого пантеона истории, укра-шенного одинокими статуями и пышными фресками скорбной Шпенглеровской физиономики.
Закончив передачу содержания и образа «Заката Евро-пы», будет, думается, не лишним поставить вопрос об объективности этой передачи, так как только при условии ее наличности осмыслены все даль-нейшие рассуждения по поводу книги.
Я рассматриваю мое изложение «Заката Европы» как эскиз к портрету Шпенглера.
Проблема портрета — проблема двойного сходства. Всякий портрет должен быть похож не только на свой оригинал, но н на подписавшегося под ним автора. Проблема портрета есть потому, с психологической точки зрения, проблема встречи в одном эстетическом образе двух человеческих душ. Эстетическое благополучие такой встречи предполагает между встречающимися душами наличие предустановленной гармонии, ощущаемой вся-ким портретистом, как любовь к портретируемому им лицу. Присутствие в портрете живых следов такой любви есть, в виду объективной природы любви, единственная возможная гарантия объективности портрета. Всякое требование иных гарантий означает обнаружение методологического дилетантизма. Для тех же, кто считает любовь началом искажающим и иллюзор-ным, проблема объективности вообще не разрешима.
Думаю, что в моей передаче книги Шпенглера должны чувствоваться следы любви к нему. Думаю потому, что передача эта должна считаться объективной, хотя и знаю, что она явно окрашена личным отношением к Шпенглеру и потому, быть может, исполнена многих неточностей. Но разве точные фотографии объективнее хотя бы и стилизованных портретов?
В дальнейшем меня интересуют три вопроса.
Оригинален-ли Шпенглер, прав ли он и в чем причина успеха его книги, т.е. каково его симптоматическое значение?
Оригинален ли Шпенглер? Если оригинальность мыслителя (я же сейчас говорю, прежде всего, о мыслителе Шпенглере) измерять несхожестью его отдельных , и прежде всего, основных мыслей с мыслями, высказанными еще до него, то за философской концепцией «Заката Европы» нельзя будет признать высокой оригинальности. Слишком ясен ее философский генезис и слишком явно перекликается она с целым рядом современных философских явлений.
Главное явление, очевидно, очень глубоко пережитое Шпенглером — это влияние Гёте. Сколько ни билась европейская мысль над определением Гётевского миросозерцания, миро-
созерцание Гёте все еще не определено. Неопределено потому, что оно не определимо, неопределимо потому, что в от-ношении его верны решительно все определения. Всякое миросозерцание представляет собою результат созерцания мира с определенного наблюда-тельного пункта, а потому неизбежно и искажение картины мира, его пре-ломляющей перспективностью. Гениальность Гёте в отсутствии такого по-стоянного наблюдательного пункта. Каждое явление он созерцает как бы приблизившись к нему, как бы проникнув в его сердце. Отсюда та единственная глубина Гётевского созерцания обликов мира, что органически не переносит стесняющих границ никакого определенного миросозерцания.
То, что дано Гёте, того хочет Шпенглер. Он в сущности не хочет философии и миросозерцания; он хочет голого созерцания мира, никаким мнени-ем неискаженного образа. Его требование, чтобы историк физиономист изъял бы из себя современного человека и созерцал бы историю, как горную цепь на горизонте взором беспристрастного божества — требование Гётевской объективности, объективности Гётевских глаз. Чистым гётеанством дышит и главная идея Шпенглера, идея морфологизирующей физиономики. В сущности она представляет собою не что иное, как результат переноса Гётевского метода созерцания живой природы на историческую жизнь. Такое рождение физиономики из глубин Гётевского отношения к природе своеобразно сказывается внутри Шпенглеровской концепции роковою для Шпенглера, невозможностью увести творимую им историю от образа приро-ды. Гёте, анизируя историческое познание, Шпенглера невольно антикизирует его, т.е. согласно его же собственному пониманию античности возвращает свою историю вспять к природе. Это становится вполне ясным при сопо-ставлении Шпенглеровской концепции истории, концепции рокового круже-ния каждой исторической души над бездною ждущей ее смерти, с драмати-ческим построением христианской философии истории.
Итак, ясно, что Гётевский интуитивизм был главною моделью Шпенгле-ровской физиономики. Разница только в том, что Шпенглер, как безуслов-ный романтик явно перенес свой интерес с природы на историю. Но исто-рия не переносит
того равнодушно справедливого к себе отношения, кото-рое не оскорбляет природы; потому она и отомстила Шпенглеру тем, что обязала его к глубоко минорной транскрипции светоносного Гётеанства. Второе решающее влияние — безусловно испытанное Шпенглером — влия-ние Ницше.
Если у Гёте Шпенглер заимствовал метод, то Ницше дал ему его главную тему, тему европейского « decadence ’а», тему цивилизации и гибели. Но если отношение Шпенглера к Гёте есть положительная зависимость, то с Ницше Шпенглер глубоко связан формулой противоположности и посколь-ку это возможно для Шпенглера, формулой противоборства. Оба чувствуют, что корабль гибнет, но Ницше жаждет спасения, а Шпенглер ждет гибели, Ницше одержим безумною мечтою взрастить у себя за спиною крылья, улететь самому и унести на себе душу гибнущего человечества. В этой вере в чудо — христианский пафос антихриста Ницше. Его трагедия только в том, что он не видит, что для людей христианского пафоса это чудо уже сверше-но Христом. Иной пафос у Шпенглера. Пафос капитана на вышке гибнуще-го корабля: ни на что не надеяться, до конца делать свое дело и мужественно пойти ко дну. У Ницше пафос подвига, у Шпенглера пафос позы, в том высоком смысле, в котором он применяет этот термин к героям античной тра-гедии.
Но Шпенглер связан не только с такими вершинами как Гёте и Ницше. В постановке проблемы культуры и цивилизации он созвучен с целым рядом так глубоко презираемых им профессоров философии, с Зиммелем, Эйкеном, Коном, Эвальдом.
Все эти ученые и целый ряд других много писали в последнее время по вопросу культуры и цивилизации. О русской философии не приходится и говорить, она вся, от Ивана Киреевского до Владимира Соловьева и Льва Толстого, посвящена вопросу обезбоженья европейской культуры, т.е. вопросу европейской цивилизации. Можно без преувеличения сказать, что вряд ли мыслим современный философ, неравнодушный к вопросам философии истории, которому вопрос культуры и цивилизации не казался бы ее главным вопросом.
Оскудение религиозного чувства, распад монументальных
форм искус-ства во всяческого рода импрессионизме и эстетизме, утрата органического чувства бытия, бесконечный проблематизм жизни, подмененной россыпью мертвых переживаний, обезличенье человека механизмом, превращение его души в накипь его профессий, смерть нации в космополитизме, — вот задол-го до Шпенглера указанные черты перерождения культуры в цивилизацию.
Не нова и основная метафизическая мысль Шпенглера. Его убеждение, что души культур свершают каждая свой одинокий круг, кружат каждая над своею собственною смертью, не связанные друг с другом сквозным историческим процессом, не объединенные в единое человечество. Эту мысль еще в начале Х VIII столетия высказывал и прочно обосновывал Вико, ее варьи-ровал немецкий историк Рюккерт, передавший ее Данилевскому, который в книге «Россия и Европа» теоретически очень близко подходит к Шпенглеру.
Трактовка противоположности природы и истории не как противоположности двух миров, а как противоположности двух точек зрения на еди-ный мир, также не может претендовать на безусловную оригинальность; она очевидно представляет собою не что иное, как сильно упрощенную и как бы эмоционализированную главную мысль методологии Виндельбанда и Риккерта.
Не без участия Бергсона выработалось далее в Шпенглере его понимание времени, как направленности переживания и пространства, как мертвого времени.
Можно было бы очень долго продолжать такое выслеживание созвучия Шпенглера с его предшественниками и современниками, и все же, если бы даже удалось доказать, что в «Закате Европы» нет ни одной безусловно новой мысли, оригинальность Шпенглера, как философа не была бы поколеблена. Философия Шпенглера не метафизическое построение и не научно--логическое исследование; она изумительно точно явленное, новое в евро-пейской душе переживание; она оригинальна не как мысль, но как звук. Если такую философию не угодно называть философией, то о словах можно, конечно, не спорить.
Оригинальность Шпенглера, как философа культуры заключается в том, что он не принадлежит к тем мыслителям пози-
тивистам, которые склонны видеть в цивилизации наиболее совершенное лицо культуры, но не принад-лежит и к тем религиозно настроенным философам, к которым принадлежат почти все русские мыслители, что видят в цивилизации маску умершей культуры. Для Шпенглера цивилизация лицо, но не лицо жизни; а живое лицо смерти . Но смерть не имеет своего лица. В лице близкого умершего мы не можем оторваться не от лица смерти, а от лица умершей в нем жизни. В лице современной цивилизации Шпенглер бесконечно любит какой-то страстный предсмертный порыв европейской культуры, этот его душе, быть может, самый дорогой ее жест. Как всякий романтик, Шпенглер любит смерть, как эстетическое apriori жизни. В этом смысле он любит и цивили-зацию, как скорбное apriori культуры.
Так разрешается в конце концов в пользу Шпенглера вопрос о его оригинальности.
Но прав ли Шпенглер? Верны ли его утверждения, правильны ли его по-строения? Не окрылена ли его книга произвольным духом дилетантизма, есть ли в ней истина? Разрешение этого вопроса предопределено для меня разрешением предыдущего. Как безусловная неоригинальность многих мыслей Шпенглера не доказывает неоригинальности его философии, также без-условное присутствие в «Закате Европы» многих логических неправомерностей и фактических неверностей, не может поколебать его существенной истинности.
Есть книги в которых правильны все положения и верны все факты, но которые все-таки не имеют никакого отношения к истине, потому что не имеют никакого отношения к духовному бытию, которых потому в сущнос-ти нет.
Есть другие, перегруженные бытием, но освещенные с формально логи-ческой и позитивно научной точки зрения произволом и самовластием. К таким, не худшим книгам принадлежит и «Закат Европы». В Греции просмотрен Дионис. В Ренессансе — реформация, в искусстве XIX века французский роман. Религиозное мироощущение фаустовской души односторонне связано с протестантизмом, а оторванный от Манчестерства и Марксизма социализм — с государственным идеалом Фридриха Великого и т.д. и т.д. Нет сомнений, что если исследование «Заката Европы» поручить комиссии
ученых специалистов, то она представит длинный список факти-ческих неверностей. Но нет сомнений, что этой комиссии будет правильно ответить за Шпенглера знаменитою фразою Гегеля «тем хуже для фактов». Перед тем как обвинять Шпенглера в ненаучности и дилетантизме, надле-жит продумать следующее: для Шпенглера нет фактов вне связи с его новым внутренним опытом, по новому располагающим события и силы ми-ровой истории. Это новое Шпенглеровское расположение не субъективно, но только персоналистично. Это значит, что объективность этого расположе-ния не гарантированная объективностью научно логических категорий, все-таки гарантирована духовною подлинностью внутреннего опыта Шпенгле-ра. Это значит, что формально логические и позитивно научные неверности Шпенглеровской концепции должны быть поняты и оправданы в ней как гностически точные символы.
Что бы фактически не утверждал Шпенглер, он со своей точки зрения до конца отрицающей истории, как науку и утверждающей, что каждый человек живет в своем собственном мире, останется всегда прав. Ведь для него факты только биографы его внутреннего опыта. Обвинение Шпенглера в субъективности осмыслено потому только, как заподазревание напряженнос-ти, подлинности, предметности и духовности его внутреннего опыта. Во всяком другом смысле оно методологическое недоразумение и больше ниче-го. Итак вопрос об истинности и объективности «Заката Европы», разреша-ется в конце концов в пользу Шпенглера.
Нет сомнения, что если бы книга Шпенглера появилась до потрясений мировой войны и революции, она не имела бы в Европе и, прежде всего, в самой Германии и половины того шумного успеха, который очевидно выпал ей на долю. Ученые отнеслись бы к ней скептически, как к работе талантливого дилетанта, широкие же круги интеллигенции никак не приняли бы пророчества о смерти. Пустым чудачеством прозвучала бы она может быть в самодовольной атмосфере европейской жизни, в атмосфере ее слишком бумажной культуры и слишком стальной цивилизации. Успех книги Шпенглера означает потому, думается, благостное пробуждение лучших людей Европы к каким-то новым тревожным чув-
ствам, к чувству хрупкости человеческого бытия и «распавшейся цепи времени», к чувству недоверия к разуму жизни к логики культуры, к обещаниям заносчивой цивилизации, к чувству вулканической природы всякой исторической почвы. Ученая книга Шпенглера явный вызов науке. Этот вызов не мог бы иметь успеха в до-военной Германии, довоенной Европе. Успех этого вызова психологически предполагает некую утрату веры в науку как в верховную силу культуры, очевидно означает происходящий в многих европейских душах кризис рели-гии науки. Возможность такого кризиса вполне объяснима. Наука, эта непо-грешимая созидательница европейской жизни, оказалась в годы войны страшною разрушительницей. Она глубоко ошиблась во всех своих предска-заниях. Все ее экономические и политические расчеты были неожиданно оп-рокинуты жизнью. Под Верденом она быть может, отстояла себя как силь-нейший мотор современной жизни, но и решительно скомпрометировала себя, как ее сознательный шофер. И вот на ее место ученым и практиком Шпенглером выдвигается дух искусства, дух гадания и пророчества, быть может, в качестве предзнаменования какого-то нового углубления религиоз-ной мистической жизни Европы. Как знать?
Когда душу начинают преследовать мысли о смерти, не значит ли это всегда что в ней пробуждается, в ней обновляется религиозная жизнь?
Федор Степун.
Страница сгенерирована за 0.02 секунд!