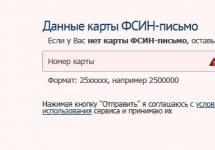Наука в современном мире имеет много применений; ее главное применение – придумывать длинные слова, чтобы прикрывать ошибки богачей. Слово «клептомания» – вульгарный пример того, что я имею в виду. Оно находится на одном уровне с той странной теорией, выдвигаемой всегда, когда богатый или известный человек оказывается на скамье подсудимых, что разоблачение – это наказание скорее для богатых, чем для бедных. Конечно, на самом деле всё совсем наоборот. Разоблачение – это наказание скорее для бедных, чем для богатых. Чем богаче человек, тем легче для него стать босяком. Чем богаче человек, тем ему легче завоевать популярность и большое уважение на островах каннибалов. Но чем беднее человек, чем тем больше вероятности, что ему придется использоваться свою предыдущую жизнь, чтобы получить ночлег. Честь – это роскошь для аристократов, но необходимость для носильщиков. Это второстепенный вопрос, но он годится как пример для общего утверждения, которое я предлагаю – для утверждения, что огромная доля современной изобретательности расходуется на поиски защиты для незащитимого поведения власть имущих. Как я сказал выше, эти меры защиты обычно проявляются наиболее настойчиво в форме апелляций к физической науке. А из всех форм, в которых наука или лженаука, приходит на выручку богатым и тупым, ни одна не является столь же необычной, как уникальное изобретение теории рас. Когда состоятельная нация вроде английской обнаруживает ясно засвидетельствованный факт, что она творит смехотворный бардак в управлении более бедной нацией вроде ирландской, то она в оцепенении делает на мгновение паузу, а потом начинает разглагольствовать о кельтах и тевтонах. Насколько я могу понять эту теорию, ирландцы – это кельты, а англичане – тевтоны. Разумеется, ирландцы – не более кельты, чем англичане – тевтоны. Я не особенно следил за этнологической дискуссией, но последнее научное заключение, которое я читал, склоняется к тому, что англичане главным образом были кельтами, а ирландцы тевтонами. Но ни один живой человек, даже с малейшим проблеском настоящего научного смысла, никогда не будет мечтать о приложении терминов «кельтский» или «тевтонский» к любому народу из перечисленных в каком-либо положительном или полезном смысле. Всё это надо оставить людям, которые говорят об англосаксонской расе и распространяют это выражение на Америку. Сколько крови англов и саксов (кем бы они ни были) сейчас остается в нашей смешанной бриттской, римской, германской, датской, нормандской и пикардийской массе, интересно только безумным антиквариям. А сколько из этой разбавленной крови могло остаться в ревущем водовороте Америки, в который непрерывно вливается водопад из шведов, евреев, немцев, ирландцев и итальянцев – это вопрос, интересный только сумасшедшим. Для английского правящего классы было бы мудрее воззвать к какому-нибудь другому богу. Все прочие боги, какими бы слабыми и противоречивыми они не были, по крайней мере, могут похвастаться своим постоянством. Но наука хвастается тем, что она пребывает в вечном течении; хвастается тем, что она непостоянна, как вода. Англия и английский правящий класс никогда не взывали к этому нелепому божеству расы до тех пор, пока им на мгновение не показалось, что у них нет другого бога, к которому можно воззвать. Все самые настоящие англичане в истории зевали или смеялись в лицом тем, кто начинал говорить об англосаксах. Если бы вы попытались заменить идеалом расы идеал национальности, то мне действительно не по душе думать о том, что они сказали. Мне бы наверняка не понравилось быть офицером при Нельсоне, который внезапно обнаружил в себе французскую кровь накануне Трафальгарской битвы. Мне бы не понравилось бы быть норфолкским или саффолкским дворянином, который вынужден разъяснять адмиралу Блейку, какими очевидными узами генеалогии он бесповоротно связан с голландцами. Истина во всем этом очень проста. Национальность существует, и она не имеет никакого отношения в мире к расе. Национальность подобна церкви или тайному обществу; она является продуктом человеческой души и воли; это духовный продукт. А в современном мире есть люди, которые готовы думать что угодно и делать что угодно, лишь бы не признавать, что что-нибудь вообще может быть духовным продуктом. Однако нация в той мере, в какой она противостоит современному миру, является чисто духовным продуктом. Иногда она родилась в состоянии независимости, как Шотландия. Иногда она родилась в состоянии зависимости и подчиненности, как Ирландия. Иногда это крупное объединение, связывающее много меньших групп, как Италия. Иногда это малое объединение, отделившееся от больших образований, как Польша. Но в каждом случае ее качество является чисто духовным или, если угодно, чисто психологическим. Этот тот момент, когда пять человек становятся шестым человеком. Это знает всякий, кто когда-нибудь основывал клуб. Наступает момент, когда пять мест становятся одним местом. Это должен знать всякий, кому когда-нибудь приходилось отражать вторжение. Г-н Тимоти Хили, наиболее серьезный ум в нынешней палате общин, безупречно определил национальность, просто назвав ее тем, за что люди будут умирать. Как превосходно сказал он в ответ лорду Хью Сесилу: «Никто, даже самый знатный лорд, не будет умирать за гринвичский меридиан». И это –величайшая дань чисто психологическому характеру нации. Тщетно спрашивать, почему Гринвич не соответствует этому духовному образцу, а Афины или Спарта соответствуют. Это всё равно что спрашивать, почему мужчина влюбляется в одну женщину, а не в другую. Ирландия представляет собой наиболее примечательный пример этой великой духовной согласованности, независимой от внешних обстоятельств, или от расы, или любой очевидной физической причины. Рим покорял народы, а Ирландия покорила расы. Нормандцы пришли сюда и стали ирландцами, шотландцы пришли сюда и стали ирландцами, испанцы пришли сюда и стали ирландцами, даже жестокие солдаты Кромвеля пришли сюда и стали ирландцами. Ирландия, которая не существовала даже политически, оказалась сильнее всех рас, которые существовали научно. Чистейшая германская кровь, чистейшая нормандская кровь, чистейшая кровь страстного шотландского патриота не были так привлекательны, как нация без флага. Ирландия, непризнанная и угнетенная, легко поглотила расы, поскольку такие пустяки легко поглощаемы. Она легко распоряжалась физической наукой, поскольку такими предрассудками легко распоряжаться. Национальность в самой слабой точке оказалась сильнее, чем этнология в самой сильной точке. Пять рас победителей были поглощены, побеждены побежденной национальностью. Это истинная и необычная слава Ирландии, и невозможно слушать без раздражения попытки, которые так часто предпринимаются ее современными сторонниками, говорить о кельтах и кельтицизме. Кто такие были кельты? Я бросаю вызов тем, кто говорит это. Кто такие ирландцы? Я бросаю вызов всем, кто равнодушен или притворяется, что не знает этого. Г-н У.Б. Йейтс, величайший ирландский гений, появившийся в наше время, демонстрирует свою восхитительную проницательность, совершенно отбрасывая аргумент кельтской расы. Но он не полностью избегает, а его последователи едва ли избегают, общего недостатка кельтского аргумента. Тенденция этого аргумента – представлять ирландцев или кельтов как странную и отдельную расу, как племя эксцентриков в современном мире, погруженное в туманные легенды и бесплодные мечты. Его тенденция – выставлять ирландцев странными, потому что они видят фей. Он склонен заставлять ирландцев казаться причудливыми и дикими, потому что они поют старые песни и присоединяются к странным танцам. Но это довольно серьезная ошибка; на самом деле, это противоположность правды. Это англичане странные, потому что они не видят фей. Это обитатели Кенсингтона причудливые и дикие, потому что они не поют старых песен и не присоединяются к странным танцам. Во всем этом ирландцы не в меньшей мере странные и отдельные, не в меньшей мере кельты, в обычном и популярном смысле слова. Во всем этом ирландцы – просто обычная чувствительная нация, живущая жизнью любой другой обычной и чувствительной нации, которая еще не пропитана копотью и не угнетена ростовщиками, или иным образом не развращена богатством и наукой. Нет ничего кельтского в том, чтобы иметь легенды. Это просто человеческое. Немцы, которые (как я предполагаю) относятся к тевтонам, имеют сотни легенд везде, где они – люди. Нет ничего кельтского в том, чтобы любить поэзию; англичане любили поэзию, может быть, больше, чем любой другой народ, пока не попали в тень дымовой трубы и колпака над ней. Всё безумное и мистическое не является ирландским; это Манчестер – безумное и мистическое, невероятное, дикое исключение из всего человеческого. Ирландии нет нужды играть в дурацкую игру науки о расах; Ирландии нет нужды делать вид, что она – племя обособленных визионеров. По части видений Ирландия – больше, чем нация, она – образцовая нация.
Г.К. Честертон (Перевод с английского М.В. Медоварова)
Еретики
1. Вступительные заметки о важности ортодоксии
Самый удивительный признак чудовищного и скрытого зла современного общества - это необычное и удивительное использование в наши дни слова «ортодокс». В прошлые времена еретик гордился тем, что он прав. Это все королевства мира, полиция и судьи были еретиками. А он был ортодоксом. Он не испытывал гордости, выступая против них; это они выступали против него. Армии с их беспощадной защитой, короли с холодными лицами, благопристойность государства, благоразумие закона, - все это были заблудшие овцы. Человек гордился своей ортодоксальностью, гордился своей правотой. Стоя в одиночестве посреди унылой пустыни, он был не просто человеком; он представлял Церковь. Он был центром вселенной; она вращалась вокруг него вместе со звездами. И никакие ужасы позабытых преисподних не могли заставить его признать себя еретиком.
Нынешний человек, следуя современным веяниям, этим хвастает. Он говорит со скромным смешком: «Знаете, я такой еретик…» - и озирается, ожидая аплодисментов. Слово «ересь» больше не означает неправоту; практически оно стало синонимом здравомыслия и отваги. Слово «ортодоксия» больше не означает правоту; оно подразумевает заблуждения. И все это означает одно, и только одно. Людей мало волнует, правы они с философской точки зрения или нет. Иначе признанию в ереси должно предшествовать признание в помутнении рассудка. Представитель богемы в красном галстуке должен кичиться своей ортодоксальностью. Террорист, подкладывающий бомбу, должен ощущать себя, по меньшей мере, ортодоксом, кем бы он ни был на самом деле.
Конечно, глупо, если философы сжигают других философов на Смитфилдском рынке за то, что им не удается выработать общую теорию Вселенной. Это часто случалось в Средние века, во времена глубокого упадка, но нисколько не прояснило предмет спора. Есть лишь одна идея, которая бесконечно абсурднее и непрактичнее, чем сжигание человека за философию. Это привычка утверждать, что философия ничего не значит; привычка, которая стала универсальной в двадцатом столетии, во времена упадка великого периода революций. Общими теориями пренебрегают повсеместно; доктрина прав человека уступила доктрине падения человека. Атеизм для нас нынче слишком догматичен и теологичен. Революция - слишком упорядочена; свобода - слишком ограничена.
Мы разучились обобщать. Бернард Шоу выразил это в прекрасном афоризме: «Золотое правило состоит в том, что золотых правил нет». Мы все больше погрязаем в обсуждении мелочей, деталей искусства, политики, литературы. Нас интересует мнение человека о трамвайных вагонах, его взгляды на Боттичелли, его высказывания о всяких пустяках. Ему позволено переворошить и исследовать миллионы мелочей, но он не должен найти тот странный объект, который зовется вселенной, иначе он придет к религии и растеряется. Нам важно все, за исключением целого.
Едва ли нужно приводить примеры всеобщего легкомысленного отношения к мировой философии. Едва ли нужно приводить примеры, дабы показать, что нас - как бы мы ни страдали от этого на практике - мало волнует, является человек пессимистом или оптимистом, картезианцем или гегельянцем, материалистом или идеалистом. Впрочем, один случайный пример я все же приведу. На любом невинном чаепитии нет–нет да и доведется услышать, как кто–нибудь скажет: «Жить на свете не стоит». Мы воспринимаем это так же, как замечание о хорошей погоде; и никто не задумывается, что это может иметь серьезные последствия для человечества и всего мира.
Если бы это высказывание было принято всерьез, мир стал бы на голову. Убийцам следовало бы раздавать медали за спасение людей из когтей жизни, а пожарных обвинять в препятствовании смерти; яды рассматривались бы как лекарства, врачей вызывали бы лишь к тем, кто здоров; а Королевское гуманитарное общество пришлось бы уничтожить как банду убийц. Но мы и мысли не допускаем, что этот болтун–пессимист укрепит общество или ввергнет его в хаос; ибо мы убеждены, что подобные теории бессмысленны.
Те, кто нес нам свободу, разумеется, об этом не думали. Когда либералы снимали запреты со всех ересей, они полагали, что таким образом можно открыть новое и в религии, и в философии. Им виделось, что вселенская истина настолько важна, что каждый обязан засвидетельствовать ее индивидуально. Современная идея состоит в том, что истина вообще не важна, и потому можно болтать что угодно. Раньше освободителями считались люди, отпускавшие благородного подлеца; теперь ими считаются люди, выбрасывающие обратно в море рыбу, которую нельзя съесть. Никогда еще не размышляли о природе человека так мало, как сейчас, когда - впервые - об этом может спорить каждый. Старые заветы гласили, что обсуждать религию позволено лишь ортодоксу. Нынешняя либеральность означает, что ее не позволено обсуждать никому.
Хороший вкус - последнее и самое ужасное из человеческих суеверий - молчаливо расцвел там, где все прочее потерпело неудачу. Шестьдесят лет назад признание в атеизме считалось дурным тоном. Затем появились брэдлафиты [последователи атеиста и вольнодумца Чарльза Брэдлафа ], последние религиозные люди, последние люди, которые думали о Боге; но даже они не смогли ничего изменить. Атеизм по–прежнему считается дурным тоном. Но агония секты привела к тому, что теперь равно дурным тоном считается вероисповедание христианства. Эмансипация заперла святого в одну башню молчания с ересиархом. Так что мы говорим о лорде Англси, о погоде и называем это полной свободой от всех вероучений.
Тем не менее есть люди - и я один из них, - которые считают, что даже с практической точки зрения самым важным для человека является его видение Вселенной. Мы полагаем, что домовладелице, которая принимает жильца, важно знать о его доходах, но еще важнее знать о его мировоззрении. Мы полагаем, что генералу перед схваткой с врагом важно знать, каковы силы противника, но еще важнее знать, каковы его убеждения. Мы полагаем, что вопрос не в том, как теория мироздания влияет на деяния людей, а в том, влияет ли на них в целом что–нибудь еще. В пятнадцатом веке человека, который проповедовал безнравственность, допрашивали и пытали; в девятнадцатом веке Оскара Уайльда, который проповедовал нечто подобное, чествовали и восхваляли, а затем разбили ему сердце и приговорили к каторжным работам, поскольку он довел дело до конца. Можно спорить о том, какой из двух методов более жесток, но незачем спорить, какой из них более смешон. Эпоха инквизиции, по крайней мере, не опозорила себя созданием общества, которое творит себе кумира именно из того проповедника, которого затем сажает в тюрьму за осуществление его идей на практике.
Самый удивительный признак чудовищного и скрытого зла современного общества - это необычное и удивительное использование в наши дни слова «ортодокс». В прошлые времена еретик гордился тем, что он прав. Это все королевства мира, полиция и судьи были еретиками. А он был ортодоксом. Он не испытывал гордости, выступая против них; это они выступали против него. Армии с их беспощадной защитой, короли с холодными лицами, благопристойность государства, благоразумие закона, - все это были заблудшие овцы. Человек гордился своей ортодоксальностью, гордился своей правотой. Стоя в одиночестве посреди унылой пустыни, он был не просто человеком; он представлял Церковь. Он был центром вселенной; она вращалась вокруг него вместе со звездами. И никакие ужасы позабытых преисподних не могли заставить его признать себя еретиком.
Нынешний человек, следуя современным веяниям, этим хвастает. Он говорит со скромным смешком: «Знаете, я такой еретик...» - и озирается, ожидая аплодисментов. Слово «ересь» больше не означает неправоту; практически оно стало синонимом здравомыслия и отваги. Слово «ортодоксия» больше не означает правоту; оно подразумевает заблуждения. И все это означает одно, и только одно. Людей мало волнует, правы они с философской точки зрения или нет. Иначе признанию в ереси должно предшествовать признание в помутнении рассудка. Представитель богемы в красном галстуке должен кичиться своей ортодоксальностью. Террорист, подкладывающий бомбу, должен ощущать себя, по меньшей мере, ортодоксом, кем бы он ни был на самом деле.
Конечно, глупо, если философы сжигают других философов на Смитфилдском рынке за то, что им не удается выработать общую теорию Вселенной. Это часто случалось в Средние века, во времена глубокого упадка, но нисколько не прояснило предмет спора. Есть лишь одна идея, которая бесконечно абсурднее и непрактичнее, чем сжигание человека за философию. Это привычка утверждать, что философия ничего не значит; привычка, которая стала универсальной в двадцатом столетии, во времена упадка великого периода революций. Общими теориями пренебрегают повсеместно; доктрина прав человека уступила доктрине падения человека. Атеизм для нас нынче слишком догматичен и теологичен. Революция - слишком упорядочена; свобода - слишком ограничена.
Мы разучились обобщать. Бернард Шоу выразил это в прекрасном афоризме: «Золотое правило состоит в том, что золотых правил нет». Мы все больше погрязаем в обсуждении мелочей, деталей искусства, политики, литературы. Нас интересует мнение человека о трамвайных вагонах, его взгляды на Боттичелли, его высказывания о всяких пустяках. Ему позволено переворошить и исследовать миллионы мелочей, но он не должен найти тот странный объект, который зовется вселенной, иначе он придет к религии и растеряется. Нам важно все, за исключением целого.
Едва ли нужно приводить примеры всеобщего легкомысленного отношения к мировой философии. Едва ли нужно приводить примеры, дабы показать, что нас - как бы мы ни страдали от этого на практике - мало волнует, является человек пессимистом или оптимистом, картезианцем или гегельянцем, материалистом или идеалистом. Впрочем, один случайный пример я все же приведу. На любом невинном чаепитии нет-нет да и доведется услышать, как кто-нибудь скажет: «Жить на свете не стоит». Мы воспринимаем это так же, как замечание о хорошей погоде; и никто не задумывается, что это может иметь серьезные последствия для человечества и всего мира.
Если бы это высказывание было принято всерьез, мир стал бы на голову. Убийцам следовало бы раздавать медали за спасение людей из когтей жизни, а пожарных обвинять в препятствовании смерти; яды рассматривались бы как лекарства, врачей вызывали бы лишь к тем, кто здоров; а Королевское гуманитарное общество пришлось бы уничтожить как банду убийц. Но мы и мысли не допускаем, что этот болтун-пессимист укрепит общество или ввергнет его в хаос; ибо мы убеждены, что подобные теории бессмысленны.
Те, кто нес нам свободу, разумеется, об этом не думали. Когда либералы снимали запреты со всех ересей, они полагали, что таким образом можно открыть новое и в религии, и в философии. Им виделось, что вселенская истина настолько важна, что каждый обязан засвидетельствовать ее индивидуально. Современная идея состоит в том, что истина вообще не важна, и потому можно болтать что угодно. Раньше освободителями считались люди, отпускавшие благородного подлеца; теперь ими считаются люди, выбрасывающие обратно в море рыбу, которую нельзя съесть. Никогда еще не размышляли о природе человека так мало, как сейчас, когда - впервые - об этом может спорить каждый. Старые заветы гласили, что обсуждать религию позволено лишь ортодоксу. Нынешняя либеральность означает, что ее не позволено обсуждать никому.
Хороший вкус - последнее и самое ужасное из человеческих суеверий - молчаливо расцвел там, где все прочее потерпело неудачу. Шестьдесят лет назад признание в атеизме считалось дурным тоном. Затем появились брэдлафиты [последователи атеиста и вольнодумца Чарльза Брэдлафа ], последние религиозные люди, последние люди, которые думали о Боге; но даже они не смогли ничего изменить. Атеизм по-прежнему считается дурным тоном. Но агония секты привела к тому, что теперь равно дурным тоном считается вероисповедание христианства. Эмансипация заперла святого в одну башню молчания с ересиархом. Так что мы говорим о лорде Англси, о погоде и называем это полной свободой от всех вероучений.
- источник: Рубрика «Мастера исторического жанра», предисловие к публикации «Пяти эссе»: «История против историков», «Альфред Великий», «Кукольный театр», «Саванарола», «Карикатура и кичливость». // «ПРОМЕТЕЙ 1967». Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Том II. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва
1.
Я никогда не относился серьезно к моим книгам,
но всегда принимал всерьез свои мнения.Г. К. Честертон. Автобиография
Гилберт Кийт Честертон родился в 1874 году в семье потомственного лондонского коммерсанта - из тех, которых в начале эпохи так хорошо описывал Диккенс, в конце - Голсуорси. Сам Честертон в «Автобиографии» описал ее скорее по-диккенсовски, и трудно не поверить, что его детство прошло в рождественски-уютной атмосфере. Вероятно, у Честертонов действительно не было форсайтовских пороков. Позже о них писали многие, и все вспоминают не ханжество и высокомерие, а суровую честность деда, тихие чудачества отца, мастерившего кукольные театры, и шумное добродушие матери, в чьих жилах текла и шотландская и французская кровь.
Он учился в школе св. Павла, чуть ли не самой старой из английских школ. Окончив ее, он хотел стать художником, но скоро оставил занятия живописью. Писал он с юности, но писателем стал почти случайно. Совсем не думая ни о славе, ни о литературе как профессии, он стал, как теперь бы сказали, внештатным рецензентом одного крупного издательства. Его заметки о книгах оказались такими блестящими, что о нем заговорили в литературном мире. Видные критики посоветовали и помогли ему опубликовать первые эссе и юношеские стихи. Когда его имя появилось в печати, им заинтересовались и Шоу, и Киплинг, и многие другие. За год он стал известен, а лет через пять был одним из первых писателей Англии.
Он прославился во всех жанрах. Его рассказы о патере Брауне стали классикой детектива. Его романами зачитывались Чапек, Хемингуэй, папа Пий XI. Без его стихов трудно себе представить антологию английской поэзии. Он написал 6 романов, 11 сборников рассказов, 10 биографий, 7 книг стихов. Эссе его сосчитать невозможно; их издают до сих пор, составляя сборники из не собранных при жизни, разбросанных по газетам и ящикам письменного стола.
В 20-х годах он стал широко известен у нас. Были изданы почти все его романы, почти все рассказы и одна биография - «Диккенс». Его переводили К. Чуковский, Н. Чуковский, В. Стенич, М. Зенкевич, И. Карнаухова. О нем писал Луначарский, им восхищался Фадеев, его любил Эйзенштейн, оставивший на полях его книг много интересных замечаний. Я думаю, можно сказать, что Честертон оказал немалое влияние на писателей и кинематографистов того времени.
Он умер в 1936 году от болезни сердца. Лучший его биограф, Мэзи Уорд, пишет, что это парадокс в его вкусе: у Честертона, добрейшего из добрых, сердце оказалось слишком маленьким.
Действительно, рассказывая о нем, прежде всего думаешь о его доброте. В предисловии к одному из его посмертных сборников Артур Брайянт пишет: «Я никогда не видел человека добрей и никогда не видел человека счастливее». В его многочисленных биографиях не найдешь ни слова о том, что он сердился на кого-нибудь в быту или был с кем-нибудь резок. Но доброта его не была пассивной или, как он сам говорил, «безобидной и пристойной»: он активно и шумно радовал людей, например - собирал вокруг себя детей и развлекал их, ловя ртом булочки или играя своим любимым огромным перочинным ножом. Его книги издавались и переиздавались, а он не стал богатым - на его счет учились и лечились бесчисленные родственники, знакомые и даже незнакомые люди. И когда читаешь его, трудно не почувствовать, что все это писал по-настоящему добрый человек.
Его сравнивали с мудрым и толстым доктором Джонсоном - прославленным лексикографом XVIII века. Сравнивали его и с Томасом Мором, в котором тоже сочетались страсть к истине, рыцарство и юмор. Но сам он никогда не сравнивал себя с великими. Он был очень скромным, или, точнее, смиренным - ведь скромность мы часто ассоциируем с тихостью, а он ни в коей мере не был тихим. («Он любил веселых людей, - писал о нем Хескет Пирсон, - громкую песню, грубую шутку, пил доброе пиво, когда оно было, и предпочитал плохое пиво трезвости».) Во всяком случае, как ни называть это качество, оно поражало многих в таком известном писателе. Он никогда не обижался и всегда первый смеялся над собой. К своим книгам он относился так легко, что друзья и почитатели нередко приходили от этого в отчаяние. Когда умерла его мать, он просто выбросил огромный архив, который собирали много лет его родители: рисунки, письма, рецензии. А когда его спросили: «Какую из своих книг вы считаете самой великой?» - он удивился и ответил: «Я не считаю великой ни одну из своих книг».
Его недостатки были оборотной стороной его достоинств. Он казался смешным, а часто и нелепым, потому что в нем не было и капли высокомерия. Он ошибался, путал цитаты, как-то раз даже выдумал за Броунинга целую строчку - если б он не писал так много и так пылко, он бы мог тщательней все проверять. Он был очень рассеян, но только потому, что непрерывно спорил в уме, доказывал, убеждал. Многие его друзья считали, что он никогда не перестает работать - «прикован к мысли».
Но есть Честертон, и есть легенда о Честертоне. Многие думают, что это был огромный, толстый добряк, абсолютно не ведающий зла, слепо восхищающийся старой доброй Англией, и новой доброй Англией, и вообще всем на свете. Действительно, он был так весел и кроток, что, «глядя на него, люди в это верили» (см. эссе «Альфред Великий»). «Из вас бы вышел великолепный бог», - писал ему Э. В. Льюкас . Но в отличие от легенды о короле Альфреде эта легенда не правдивей и не историчней факта; она мешает, а не помогает понять Честертона. Прежде всего Честертон прекрасно ведал зло. В юности, по собственному его признанию, он, выйдя в мир из диккенсовской детской, дошел до полного отчаяния, и его апология надежды и радости спасла его от безумия. Он никак не был толстокожим - он был из тех лишенных кожи людей, которые действительно не могут выносить зла. И уж никак нельзя назвать его оптимистом, если понимать под оптимизмом сытое довольство («Чего они волнуются? Жить можно»). Он волновался всегда, до самой смерти; если б он был равнодушней, он жил бы дольше. Он прекрасно понимал, что жить можно далеко не всегда, и много раз писал о том, что добрая смерть лучше худой жизни. Он радовался добру - и ненавидел зло. Первое заметней, потому что радовался он не по-взрослому сильно. Может быть, единственный его недостаток как писателя в том, что он не мог изобразить уныния. Все, что он писал, весело читать. Атмосфера его романов похожа на атмосферу сказок - такие яркие и чистые там краски, такие четкие характеры, такие немыслимые, на грани клоунады, сцены. Он ненавидел гордость, трусость, жестокость; умел их высмеивать - но не умел передать дух уныния. Приблизительно это он писал о Диккенсе и Стивенсоне, но к нему это относится гораздо больше. У Диккенса есть «Тяжелые времена», у Стивенсона - «Владетель Баллантре», да и в других их книгах можно найти атмосферу отчаяния и уныния. У Честертона ее нет, и, может быть, поэтому многие из его горячих поклонников видят в нем прежде всего сказочника и юмориста.
Его постоянные шутки мешали многим понять, насколько он искренен и глубок. Шутил он не случайно, совсем не потому, что ему, как думали нередко, всегда весело. Он убежденно и пылко доказывал, что не беспечная шутка пуста, а безответственная серьезность. «Не так уж много на свете веселых чудаковатых писателей. Зато земля кишит писателями многозначительными, велеречивыми, важными. Важность в наше время - враг искренности. И единственный ответ на яростный, веселый натиск искренних - пустая многозначительность важных» («Еретики»).
И еще одно способствовало легенде о живом Деде Морозе: он не умел ненавидеть людей, только идеи. С кем бы он ни скрещивал шпаги, он никогда не злился на противника и никогда его не презирал. Уэллс и Шоу, с которыми он спорил непрерывно, были его ближайшими друзьями; Уэллс сказал как-то чуть ли не в отчаянии, что с Честертоном просто невозможно поссориться. Может быть, только один раз он призывал ненавидеть человека - когда меньше чем за год до смерти писал, что надо относиться к Гитлеру, как люди относились к Ироду.
О том, что он думал о старой доброй Англии, я скажу позже. К новой же Англии он относился очень и очень горько. Конечно, он был патриотом, но никак не шовинистом. «Если мы гордимся лучшим, что у нас есть, мы должны раскаиваться в худшем», - говорил он в статье «Плата за патриотизм». Что думал он о худшем, можно узнать, прочитав «Альфреда Великого» и «Карикатуру и кичливость». Много раз он повторял, что ни одна страна не имеет права на колонии, и качал свою газетную деятельность с яростных выступлений в защиту буров. В 1908 году он писал: «Как хорошо, должно быть, в Англии, если ее не любишь!» В 1925 - что для блага Англии ей надо «встать в ряды несчастных наций». Какой шовинист скажет так? Честертон видел свою страну «глазами безрассудной, беззаветной любви», которые - как писал он сам - «зорче и беспощадней, чем глаза ненависти». Так же видел он и весь свет.
2.
Нередко говорят, что реалистическая биография обнародует слишком много важных и даже священных сведений. На самом же деле она плоха тем, что обнародует самое неважное. Она обнародует, утверждает и вбивает вам в голову именно те факты, о которых сам человек не думает: его социальное происхождение, подробности о его предках, его почтовый адрес… Имя человека, доходы, адрес, фамилия его невесты не священны, они просто неважны.
Г. К. Честертон. «Шарлотта Бронте»
Честертон написал 10 биографий и несколько десятков биографических эссе. Биографией была первая его большая книга, «Роберт Броунинг»; биографические эссе составили первый большой сборник - «Двенадцать портретов». Он писал об исторических деятелях, художниках, поэтах, прозаиках. Многие считают, что именно в жанре биографии Честертон сильнее всего.
Лучшей из его биографических книг по праву считается «Чарльз Диккенс» (1906). Когда она вышла, дочь Диккенса писала, что со времен Форстера никто не рассказал лучше об ее отце. С тех пор появилось много других работ о Диккенсе, и все-таки для тех, кто прочитал эту, она навсегда остается особенной. Можно не соглашаться с ней (см., например, очень интересный спор В. Шкловского с некоторыми ее положениями в «Художественной прозе»), но ее веселый, диккенсовский дух поневоле заражает вас. «Честертон, вы просто прелесть! - писал Честертону Уильям Джеймс. - Это хорошо, как Рабле. Спасибо!» Не надо забывать, что для Честертона Диккенс не был мертвым классиком чужого века. Диккенс умер за четыре года до его рождения. Старшие современники Честертона были младшими современниками Диккенса, и в семье жило предание о не так уж давно скончавшемся приятеле Диккенса, капитане Джордже Лэвеле Честертоне. Но главное, конечно, не в этом - Честертон и Диккенс очень похожи. Иногда кажется, что Честертон оруженосец Диккенса или преданный ученик.
Лавры лучшей биографии оспаривает книга о Броунинге (1903). Она действительно очень интересна, но, мне кажется, с «Диккенсом» в сравнение не идет - то ли Броунинг менее близок нам, то ли он был менее близок самому Честертону. Я бы скорее сравнила с «Диккенсом» предпоследнюю из честертоновских биографий - «Чосер» (1932). Задача ее, несомненно, гораздо сложнее: Диккенса любят и читают все, Чосер нередко воспринимается только как объект филологических исследований. Но когда узнаешь о нем от Честертона, он становится совсем живым, и тот, кто не читал «Кентерберийских рассказов», спешит их прочитать.
В последние десятилетия Честертон собирался написать книгу о Шекспире. Судя по заготовкам, опубликованным в посмертных сборниках (например, «Сон в летнюю ночь»), эта книга действительно могла бы оспаривать у «Диккенса» первое место.
Честертон никогда не причислял себя к ученым. Дело тут не только в его скромности (он вообще называл себя не писателем, а журналистом). Он действительно не был ученым, и книги его не научные труды. В них сравнительно мало фактов. Сплошь и рядом он опускает самые привычные сведения - «подробности о предках» или «почтовый адрес». Бывают у него и прямые ошибки; так, он написал, что любая открытка Диккенса была литературным произведением; на самом же деле Диккенс не писал на открытках, их просто не было при его жизни, они появились в конце 1870 года, а он умер в начале. Однако только педанты ругали его за это; в его книгах такие ошибки ничему не мешают. Подставьте слово «письмо» - и все; дело не в этом. Суть и ценность честертоновских биографий в необычайно остром его чутье. Если (следуя его словам из «Шарлотты Бронте») такие биографии нельзя назвать реалистическими, то придется сказать, что они реальней реального. Герой его книги - как будто под увеличительным стеклом или в луче очень яркого света. Он всегда становится живым для нас. Можно не соглашаться с концепциями Честертона, но трудно не поражаться остроте его зрения.
Честертон не считал, что его книги заменяют или отменяют научные труды. Он просто думал, что взгляд со стороны особенно свеж и увидит многое, чего специалист не заметит. В сущности, он понял то самое, что позже у нас Шкловский назвал остранением. На принципе свежего глаза он настаивал десятки раз. Может быть, лучше всего он сказал об этом так: «И вот один из четырех или пяти парадоксов, которые следовало бы сообщать грудным детям, сводится к следующему: чем больше мы смотрим - тем меньше видим; чем больше учимся - тем меньше знаем» («Двенадцать обычных людей»).
Если он вторгался в чисто ученую область (скажем, в сферу филологии), он никогда не навязывал своих мнений и всякий раз подчеркивал, что он не специалист. В «Чосере», например, он заканчивает тонкое рассуждение о смысле одной строки фразой особенно трогательной и поучительной, если вспомнить, что в 1932 году он прочно пользовался мировой славой: «А может, я не прав». Начиная с 1903 года ему предлагали читать университетский курс литературы - и он не соглашался.
Мы говорили, что герои его книг - реальнее реального. С этим связано важнейшее свойство его биографий: они романтичны в лучшем смысле слова. Он верил, что «правда не только удивительней выдумки - она нередко чище выдумки. Ведь правда - это правда, а выдумке приходится быть правдоподобной» («Новый Иерусалим»). В отличие от многих своих современников он не пытался принизить своего героя, чтобы сделать его понятней и ближе, - он делал его понятней и ближе, возвышая. Как истинный романтик, он не заменял низких истин возвышающим обманом, а умел увидеть по-настоящему высокую правду. Он писал: «Я ничуть не осуждаю тех, кто соскабливает, позолоту с пряника, - пряник много важней для меня, чем позолота. Но, к огромному сожалению, люди редко на этом останавливаются. Очистив пряник, они тратят остаток своих дней на соскабливание позолоты с огромных слитков золота» («Дж. Б. Шоу»). В этом смысле он, конечно, был и оптимистом и романтиком. Он верил, что есть чистое золото; а тем, кто в это не верит, лучше не читать его биографий.
3.
Достоверно мы знаем одно: полный провал настоящего. Чтобы это знать, совсем не нужно идеализировать средние века - нужно просто понимать вен нынешний… Мы не считаем, что человеку положено жить в жемчужных и сапфировых чертогах будущего или в пестрой таверне прошлого; зато мы глубоко уверены, что ему не положено жить в капкане.
Г. К. Честертон. «Новый Иерусалим»
Во время первой мировой войны Честертона попросили написать историю Англии. Он отказался - сказал, что он не историк. В конце концов он все-таки ее написал (долго было бы рассказывать почему; честно говоря, издатели просто сыграли на его добродушии и честности). Правда, он назвал ее «Краткой историей Англии» и много раз на ее страницах напоминал, что это не научный труд. Тем не менее серьезные историки говорили, что он сумел схватить что-то такое, чего им схватить не удалось. В исторических работах ему помогала все та же свежесть взгляда и та же любовь к своему герою; а в «Краткой истории Англии» героем был народ. Он ставил высоко и короля Альфреда, и Томаса Мора, и Нельсона, но выше всех их он ставил тот самый «незаметный народ», которому посвятил одно из лучших своих стихотворений. Рассказ о битве при Ватерлоо он кончает так: «А когда исследователь истории или литературы, чувствуя, что эта война была, что ни говори, героической, оглядывается в поисках героя, он не находит никого, кроме толпы».
Точно так же, как в биографиях, он был здесь истинным романтиком. «Краткую историю Англии» называли эпосом и даже поэмой. И действительно, когда в самом начале читаешь, что Британские острова были для римлян сказочной страной на краю света, по ту сторону заката, кажется, что открыл книгу стихов или «Алису в стране чудес».
Написал он и настоящую поэму об истории, «Балладу о белом коне» - длиннейшую, в восьми главах, стихотворную повесть о борьбе с данами своего любимого героя, Альфреда Великого. В самые трудные дни второй мировой войны «Тайме» поместила вместо передовицы строфу из этой поэмы; а когда произошел перелом и войне стал виден конец - две строки из нее.
Честертон писал об истории много меньше, чем о литературе, хотя очень ее любил и еще в школе удивлял учителей зрелостью исторических характеристик. Он посвятил ей две книги («Краткая история Англии» и «Преступления Англии»), поэму и около 20 эссе. Кроме того, во многих его книгах - особенно, конечно, в биографиях - есть главы, посвященные той или иной эпохе. Может быть, он не всегда решался писать об истории, поскольку понимал, что тут мало свежего глаза. И все-таки его можно назвать настоящим историком: он умел схватить и передать суть исторических событий. Его книги и эссе полезно читать в начале - или в конце - изучения эпохи. Например, после его главы о Тюдорах все события той смутной поры становятся на место.
И еще одно свойство истинного историка было у него: он умел предвидеть. Роналд Нокс говорил, что его будут вспоминать как пророка в век лжепророков. Недавно газета «Гардиан» писала о том, как много его пророчеств подтвердилось. В начале века, когда считалось, что в Англии не может быть ни монополий, ни кризисов, он упорно предостерегал англичан. И трудно не удивляться его здравому чутью, когда читаешь, например, что он писал во времена веймарской республики, когда многие политические деятели считали излишней паникой толки о надвигающемся фашизме: «Гинденбург никогда не был диктатором и никогда им не будет. Он держит тепленьким место для будущего диктатора».
У каждого, кто пишет об истории, есть, вероятно, своя любимая эпоха. Такой эпохой были для Честертона средние века. Может быть, Честертон из легенды воспевал театральные красоты условного средневековья, но совсем не их любил настоящий Честертон. Как ни жаль, несмотря на многократные объяснения, и противники его и даже многие сторонники приписывали ему именно это. Конечно, если прочитать не все, что он написал, так подумать можно. Например, в некоторых стихах («Крестоносец возвращается из плена», «Медиевализм») он просто славит рыцарский дух и старую добрую Англию. Но стихи не статья; далеко не всегда поэт приводит в стихах все «за» и «против». Так может подумать и тот, кто прочитает его романы «Наполеон из Ноттинг-хилла» и «Возвращение Дон-Кихота». Но тот, кто читал его лучший роман, «Перелетный кабак», поймет, что именно защищал он и славил - не преимущества меча перед прозой компромисса (как в «Наполеоне») и даже не чистоту рыцарского идеала (как в «Дон-Кихоте» ), а свободу и радость человека, или, как писал он в «Автобиографии», «бесконечное достоинство отдельной души». В отличие от героев «Наполеона» и «Дон-Кихота», Патрик Делрой не возрождает ни рыцарских орденов, ни геральдики, ни гильдий, ни самоуправления городов - он просто катит ногой по Англии бочонок рома и голову сыра, причиняя бесчисленные неприятности лорду, запретившему бедным веселье и пиво. В «Охотничьих рассказах» тоже нет театрального средневековья; веселые чудаки мятежники вспоминают разве что Робин Гуда и возрождают «добрую Англию» под лозунгом: «Три акра и корова». Вот это Честертон действительно хотел возродить - свободное английское крестьянство, существовавшее (с грехом пополам) до того переворота сверху, который он называл «мятежом богатых». Одно время он участвовал в движении дистрибутизма - собственно, он был одним из его зачинателей. Дистрибутивы противопоставляли свободный союз крестьянских хозяйств и капитализму и социализму. Они предлагали заменить плутократию и монополии системой крестьянских хозяйств. Однако на вопрос: «Считаете ли вы, что дистрибутизм спасет Англию?» - он ответил: «Нет. Англичане спасут Англию, если им дадут малейшую возможность».
Честертон любил совсем не то условное средневековье, которое ругали утилитаристы и воспевали эстеты. Об этом говорится в эссе «История против историков» и во многих других. В эссе «Загадка реставрации» он предлагает способ отличить настоящего романтика от мнимого («А это немаловажно, - писал он, - если ваш собеседник претендует на звание поэта, историка или зятя»): мнимый романтик любит средние века за то, что они мертвы. Если так, сам он снова оказывается истинным романтиком. Он любил то, что живо. Из людей той поры он выбрал Робин Гуда и Чосера; не призрачную принцессу, а веселого йомена. В «Истории против историков» вы прочитаете, что он думал о модных в его время взглядах ценителей средневековья. Смеялся он и над теми, кто презирал средние века, считая их черным провалом в истории. Он верил - и утверждал, - что уныния в то время было не больше, а много меньше, чем в Англии его времен. «В тот аскетический век, - писал он, - любовь к жизни была так сильна, что ее приходилось обуздывать. А во времена гедонизма радости так мало, что приходится силком тащить людей к веселью» («Дж. Б. Шоу»). А в эссе «Золото Глестонберри» он рассказывает, как археолог показал ему обломок старого свода: «…и на беловато-сером фоне я увидел мазок золота. Жалость пронзила меня - так трогают нас внезапной хрупкостью забытые, заброшенные вещи. Этот золотой мазок был нелеп и нежен, как рождественский подарок в бедном доме. И я узнал, что мои предки были такие же, как я. Я вспомнил, что наши снобы любят мрачную сень старинных аббатств и сами одеваются в стиле руин, темных стен и вялого плюща… Конечно, они лучше меня понимают величественный костяк и пышные мхи мертвого Глестонберри. Но я стоял в живом Глестонберри - веселом, золотом, раскрашенном, как детская книжка».
Повторяю: Честертон считал, что в те века было больше свободы, веселья и здравомыслия. Так это или нет, решать не мне; вопрос этот слишком серьезен, его и не решишь в маленьком предисловии; но он в это верил. Однако он никак не считал, что средние века были золотым веком. Жаль, что его противники не заметили (или не приняли всерьез) того, что писал об этом он сам. Приведу хотя бы два его рассуждения: «Тех, кто любит средние века, нередко обвиняют - как это ни глупо - в том, что для них средневековье совершенно. Но в том-то и дело, что оно было несовершенным - несовершенным, как незрелый плод или маленький ребенок. Несовершенство его - особое; именно такой вид несовершенства современные мыслители любят больше, чем зрелость… То было время прогресса… Люди редко двигались так быстро и сплоченно от варварства к цивилизации» («Новый Иерусалим»). «Они совсем не были верным местом… Они были только верной дорогой или, быть может, началом верной дороги. Нельзя сказать, что все шло тогда правильно; скорей уж то было время, когда все шло не так… Совсем не нужно их идеализировать, чтоб о них сожалеть» .
Верной дорогой он считал только ту эпоху, которую называл «ранней, лучшей порой средневековья». В книге о Шоу он говорит мимоходом, что «веселая готика XIII века сменилась готическим уродством XV»; ключ тут в слове «веселая». Ему бы и в голову не пришло ругать уродство как таковое - он осуждает мрачность XV века, его зловещий дух. «Мы помним их (средние века) по запаху последней, упадочной поры, - пишет он в эссе „Кукольный театр“. - Для нас средневековая жизнь - жуткая пляска демонов и грешников, прокаженных и еретиков. Но это не жизнь средних веков - это их смерть. Это дух Людовика XI и Ричарда III, а не Людовика IX и Эдуарда I» .
А почему он относился с недоверием к тому, что пришло после, говорится в «Савонароле» - одном из самых известных его эссе; он писал об этом не раз и в очерках и в книгах. Может быть, его самого надо причислить к тем пылким историкам, которые видят половину правды (см. «Историю против историков»); но именно эту половину видели очень немногие. А что касается другой половины, мне кажется, он знал и ее. Кто, как не он, так сильно любил Рабле, Эразма и Томаса Мора? Предположим, что он пристрастен; предположим, что он не всегда верно судит о прежних веках. Но от этого не станет слабее предостережение живым. Трудно не понять, читая «Савонаролу», что Честертон так страстно сражается прежде всего с пороками и опасностями своего века.
В этом - ключ к его историческим работам. О чем бы он ни писал, что бы ни высмеивал, что бы ни славил в прошлом - он страдает о настоящем. И как бы ни относиться к советам и выводам Честертона, трудно не полюбить того, кто так сильно любил людей, так боялся за них и так хотел им помочь.
Н. Л. Трауберг (Вильнюс)
В 2003 году под названием «Человек с золотым ключом» была опубликована автобиография Гилберта Честертона. В этой книге он, общепризнанный автор полемики, говорит о себе и своих убеждениях. Но что бы ни славил в прошлом Честертон, о чем бы ни писал или ни высмеивал - он страдает о настоящем. Как бы мы ни относились к его выводам и советам, важно одно - сложно не полюбить того, кто искренне любил людей, переживал за них и очень хотел им помочь.
Краткая биография
Английский писатель Честертон Гилберт Кит родился в 1874 году в Лондоне. Его отец был агентом по торговле недвижимостью. В семье было трое детей, но сестра Гилберта умерла, когда ему было два года. Через три года родился брат Сесил. Отец писал акварели, гравировал, сочинял для своих детей книги и сам переплетал их.
В 1881 году Гилберт Кит Честертон пошел в подготовительную школу, а в 1887 поступил в школу Сент-Полз. От других она отличалась тем, что находилась в центре Лондона, и ученики жили дома. Продолжить образование в университете Честертон упорно не желал, чтобы он как-то учился, нашли компромисс - он ходил только на лекции английской литературы в Лондонский университет. Тем не менее, Гилберт постоянно посещал занятия в училище живописи. Он хотел стать художником, но вскоре оставил живопись. Его увлекла литература.
Писателем Гилберт Кит Честертон стал не случайно, поскольку писал с ранних лет. Карьеру на этом поприще он начал в двадцатилетнем возрасте в издательстве «Букмэн» рецензентом, потом перешел в издательство «Т. Фишер Анвин». Заметки Гилберта о книгах были настолько блестящими, что его заметили в литературных кругах.
Честертону помогли опубликовать первые эссе и стихи. Им заинтересовались Киплинг и Шоу, как только имя его появилось в печати. За год Честертон стал известен, а через пять лет стал одним из лучших авторов Англии. Как писатель Гилберт был очень плодовит. Его перу принадлежит более ста томов сочинений.
Эссе и заметки Честертона сосчитать невозможно, только в «Иллюстрейтед Лондон Ньюс» их вышло около 1600, а публиковался он не только там. Прославился Честертон во всех жанрах. Гилберт Честертон написал семь сборников стихов, десять биографий, шесть романов и одиннадцать сборников рассказов.
Умер Честертон от болезни сердца в 1936 году.

Что характерно для его произведений?
Высказываемые Честертоном мысли часто имели парадоксальную и эксцентричную форму. В основе творчества автора лежит оптимистическое представление о жизни, опирающееся на глубокую веру в Бога и здравый смысл. Парадокс Честертона как писателя состоит не в усложнении действительности, а ее упрощении.
Большинство его биографических произведений написаны не как писателем-исследователем личности и творчества авторов, а как Честертоном-читателем. Биография как бы отдаляется на второй план, а творчество этих авторов является для Честертона поводом для рассуждений на темы политики, искусства, религии.
Именно это сочетание публицистического и лирического начал формирует характерный художественный стиль биографий Честертона. Что делает их привлекательными для читателей, поскольку воссозданный автором облик выглядит точным и убедительным. Не случайно написанный Честертоном «Чарльз Диккенс» признан одним из лучших произведений о великом романисте.
Как правило, в творчестве многих писателей в связи с какими-либо событиями в их жизни наступает переломный момент. Чего не скажешь о Честертоне. Добродушный, талантливый человек, он отличался какой-то «детскостью». Гилберт Честертон смотрел на мир, как на чудо, - восхищенно и изумленно. И отношение окружающих к нему было таким же.
Читая его автобиографию, создается впечатление, что вся его жизнь, как и детство, были безоблачными. Но все-таки есть два запоминающихся события, которые каким-то образом повлияли на его творчество.
Первое, весьма важное для писателя, - это его женитьба на Фрэнсис Блогг в 1901 году. Честертон долгое время ухаживал за девушкой, но день свадьбы не назначали. Связано это, вероятно, с нежеланием матери Гилберта видеть Фрэнсис своей невесткой. Долгожданный, счастливый для молодых день настал, и после этого Честертон от статей и эссе в газетах обратился к более серьезным произведениям. Он стал писать художественную прозу - рассказы и романы.
Второе событие, которое повлияло на его творчество, было далеко не радостным. В 1914 году писатель Честертон Гилберт перенес тяжелую болезнь, в течение нескольких месяцев писатель находился в бессознательном состоянии. После этого мировоззрение Честертона изменилось, что заметно по его произведениям. Для сочинений этого времени характерна теологическая тематика. Идеи Честертона приобрели глубину и яркость.

Творчество Честертона
Литературную карьеру Гилберт Честертон начал с поэзии. Но первый сборник стихов «Играющие старики» не принес успеха. Второй сборник «Дикий рыцарь», хоть и был отмечен Киплингом, также прошел незамеченным. Намного удачнее сложилась судьба сборников эссе.
Первая книга «Защитник» была составлена из эссе, публиковавшихся в «Спикере» и «Дэйли Ньюс». Обе газеты завалили письмами читатели, и статьи пришлось издать отдельным изданием. Когда был опубликован второй сборник, к славе писателя Честертона уже привыкли.
Наибольшей популярностью пользовались вышедшие в печать в 1905 году «Еретики», изданный в 1908 году сборник «При всем при том» и опубликованные в начале 1912 года эссе «Двенадцать типов».
Кроме биографий, напечатанных отдельными книгами, Гилберт Честертон написал десятки биографических эссе. В первый сборник «Двенадцать портретов» вошли эссе о поэтах, художниках, исторических деятелях, прозаиках. Биографические книги Честертона: «Роберт Браунинг», напечатанный в 1903 году, «Чарлз Диккенс», публиковавшийся отдельными эссе с 1906 по 1909 годы, а затем изданный одним сборником. Его перу принадлежат замечательные сочинения о Б. Шоу и У. Блейке, о Р. Стивенсоне, произведения которого Честертон много раз перечитывал.
Исторические труды Честертона включают два произведения - «Краткая история Англии» и «Преступления Англии», стихотворную поэму «Баллада о белом коне» и около двадцати эссе. Здесь он так же, как в биографиях, был истинным романтиком. Еще в школе писатель удивлял всех зрелостью исторических характеристик. В этих произведениях он сумел уловить суть исторических событий и передать их со свойственным ему здравым чутьем, которым отличался Гилберт Честертон.
Книги на религиозные темы, принадлежащие перу этого великого человека, поднимают вопросы и проблемы, понятные широкому кругу читателей. Они привлекли внимание духовных лиц. В 1908 году были опубликованы очерки «Ортодоксия». Трактат «Святой Франциск Ассизский», вышедший в 1923 году, высоко оценил Папа Римский. В 1925 году Честертон пишет на богословскую тему трактат «Вечный человек». Г. Грин, английский писатель, назвал это произведение «одной из величайших книг столетия».
Честертону принадлежат романы:
- «Наполеон из Ноттинг-хилла», опубликованный в 1904 году.
- «Человек, который был Четвергом», вышедший в печать в 1908 году.
- «Шар и крест», напечатанный в 1910.
- «Жив человек», вышедший в 1912 году.
- «Перелётный кабак», опубликованный в 1914.
- опубликованный в 1927 году «Возвращение Дон Кихота» и др.

Детективы Честертона
Но самыми популярными произведениями Честертона стали рассказы о католическом священнике, который искуснее Шерлока Холмса распутывал преступления:
- Первая книга «Неведение отца Брауна» вышла в свет в 1911 году.
- В 1914 вышла вторая книга «Мудрость отца Брауна».
- «Недоверчивость отца Брауна» вышла в печать в 1926 году.
- «Тайна отца Брауна» опубликована в 1927 году.
- Заключительная книга «Скандальное происшествие с отцом Брауном» издана в 1935 году.
Сюжетная линия его произведений оригинальна и неповторима. Написаны они непринужденным и легким стилем. Кроме того, подкупают тем, что главное действующее лицо цикла - католический священник, главным оружием которого является логика. Талантливый и одновременно скромный отец Браун распутывает самые невероятные истории.
Вклад Честертона в детективный жанр был высоко оценён и критиками, и читателями. Повествования об отце Брауне вполне заслуженно признаны классикой этого жанра. Занимательный сюжет рассказов о католическом священнике превосходно дополняют афористичность стиля, юмор и глубокое знание человеческой натуры. Честертон стал первым председателем «Клуба детективных писателей», затем на этом посту писателя сменила А. Кристи.