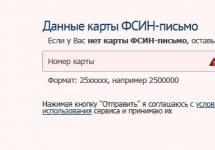Александр Генис: В эфире – ""Музыкальная полка"" Соломона Волкова.
Что на вашей полке сегодня, Соломон?
Соломон Волков: Новейшая западная монография о Святославе Рихтере, которая так и называется - ""Святослав Рихтер: пианист"". Ее автор - датский профессор Карл Ааге Расмуссен (Karl Aage Rasmussen), и она вышла только что в Америке. И я должен сказать, что я, читая эту книгу с большим удовольствием и интересом, подумал, как прискорбно, что ничего подобного в России до сих пор о Рихтере, да и, пожалуй, ни об одном музыканте не вышло.
Александр Генис: А что вы имеете в виду - ""в таком роде""?
Соломон Волков: Книга названа ""Пианист"" и она, действительно, фокусируется на музыкальных особенностях, на музыкальных интерпретациях и анализе того, что делает Рихтер. Но там также чрезвычайно внятно и без каких бы то ни было значительных умолчаний излагается биография Рихтера, в которой было множество всяческих драматических моментов. До сих пор ничего подобного этой биографии не появилось, и почему-то обходятся молчанием очень важные и существенные моменты рихтеровской жизни.
Александр Генис: Что вы имеете в виду?
Соломон Волков: У него ведь была очень драматичная жизнь. Во-первых, его отца расстреляли в самом начале войны, как немецкого шпиона. Далее, мать ушла с немецкими войсками в Германию, с человеком, который был еще при жизни отца ее любовником, тоже музыкантом, и там прожила всю жизнь. И отношения Рихтера с ней и с ее новым мужем были невероятно сложными и травматическими. Об этом - полный молчок в советской литературе и, даже, в позднейших публикациях о Рихтере. Наконец, вопрос, связанный с гомосексуальной ориентацией Рихтера. Она, эта ориентация, отнюдь не была секретом - даже в Советском Союзе, в музыкантских кругах, все знали об этом. Но, опять-таки, об этом никто даже не заикается, как будто это не имеет ни малейшего отношения к биографии.
Александр Генис: А вы считаете, что имеет отношение к музыке? Это важно знать?
Соломон Волков: Как же не важно знать о сексуальной стороне жизни человека, если она так важна в жизни! Это все равно, что сказать, что для жизни человека его сексуальная биография не важна. Мы же не можем сказать такой чепухи. Ясно, что сексуальный мир человека составляет огромную часть его бытия и, неминуемым образом, эта сторона отражается на всем - на биографии, на творчестве, а тем более, когда мы говорим о нетрадиционной ориентации, а тем более, когда это было дело в Советском Союзе. Все же это как бы было подпольное, это же создавало совершенно особые условия существования для Рихтера, это создавало совершенно особую систему его общественных связей, его взаимоотношений с властью, с государством, с обществом. Все абсолютно менялось в связи с этим. Я, например, из этой биографии впервые узнал, что его известный показной брак с Ниной Дорлеак, певицей, который продолжался много лет, все считали, что они муж и жена, а они, оказывается, при жизни никогда даже не были зарегистрированы. Брак Рихтера и Дорлеак был зарегистрирован после смерти Рихтера самой Дорлеак. Должен сказать, что с точки зрения юридической, как это описано в книге (я сужу, опять-таки, только по этой книге, я ничего этого не знал) все это выглядит чрезвычайно удивительным.
Александр Генис: Чтобы не сказать абсурдным.
Соломон Волков: Но, опять-таки, когда есть только эта одна единственная книга, то мы черпаем свои познания о жизни Рихтера сейчас из этой книги, и я могу только сожалеть о том, что ничего подобного в России нет.
Александр Генис: Но мы еще знаем о Рихтере благодаря его музыке. И в чем заключается главный вклад Рихтера в фортепьянную музыку?
Соломон Волков: Вклад Рихтера не только в фортепьянную музыку был огромен. Он в Советском Союзе как бы был долгие годы олицетворением, если угодно, музыкальной совести страны. Вот Рихтер был таким символом чистоты, отрешенности от каких-то земных забот, от участия в этой всем надоевшей и фальшивой общественно-политической жизни. Он как бы стоял над всем над этим. И символическим в этом плане является его исполнение Баха. Оно очень перекликается с отношением Рихтера вообще к общественной жизни - он как бы возвышался в своем исполнении Баха над окружающей музыкой, точно так же, как он в своей повседневной жизни возвышался над этой всей суетой и этими дрязгами.
Александр Генис: Соломон, считают, что Рихтер вернул Баху огромную популярность. И в этом отношении он схож с другим великим пианистом, который сделал примерно то же самое в западном, Новом Свете - это Гульд. Как по-разному звучит Бах у этих пианистов?
Соломон Волков: Вы знаете, по сравнению с Рихтером Бах у Гульда это популистская музыка, потому что Гульд играет очень эксцентрично и, в общем, напористо Баха. У него Бах это очень активный композитор, а у Рихтера все баховские краски несколько блёклые. И это, как я уже сказал, чрезвычайно отстраненная музыка, возвышающаяся над морем суеты. Этого совершенно нельзя сказать о Бахе Гульда.
Александр Генис: При том, что оба они северяне. Гульд ведь канадец.
Соломон Волков: Бах Гульда это активный участник жизни, он как бы все время с нами. А слушая Баха в исполнении Рихтера, мы уходим из жизни, мы куда-то уносимся и слушаем эту музыку как бы далеко сверху.
Александр Генис: ""Личная нота"".
Соломон Волков:
Сегодня в разделе ""Личная нота"" прозвучит сочинение Сергея Слонимского, петербургского композитора, которого я знаю уже очень много лет, который, когда я учился в Ленинградской консерватории, был уже ведущим и уважаемым педагогом, с которым я часто сталкивался, разговаривал, очень многому у него научился. И я до сих пор нахожусь под обаянием его личности. Он недавно приезжал в Нью-Йорк, мы не виделись почти 40 лет, встретились, и говорили как будто бы и не расставались. И сочинение, о котором я говорю, прозвучало не так давно в Петербурге. Там, в Петербургской консерватории, был организован фестиваль, который называется ""Под знаком вечности"". Он проходит во второй раз. В данном случае он имел подзаголовок ""Царственные книги"", потому что в программе этого фестиваля исполнялись произведения, связанные с тремя русскими монархами: с Иваном Грозным, с Борисом Годуновым и с Петром Первым. В музыкальном плане, по-моему, самой интересной фигурой здесь является Иван Грозный. Поэтому опус Слонимского, который я покажу, это увертюра к его опере ""Видения Иоанна Грозного"". Но сначала я хотел бы показать сочинение русского классика Римского-Корсакова, которого фигура Ивана Грозного тоже очень привлекала. Вообще ведь Грозный, как, может быть, никто другой, являлся всегда знаковым лицом, знаковой фигурой для российской культуры. То есть в зеркале Грозного, условно говоря, каждый раз отражалась современная ситуация российского общества.
Александр Генис:
Причем это идет еще от историков: и от Карамзина, и от Ключевского, и от Соловьева. У всех у них Иван Грозный - центральная фигура. Я думаю, что это идет еще и потому, что нужна какая-то параллель с античным миром. И, скажем так, Иван Грозный это как Цезарь, это та ось, на которой стоит русская монархия. И всегда это был вопрос либерального и консервативного мироощущения.
Соломон Волков:
И либо Грозный трактовался в положительном плане, как собиратель России (это вечная тема), либо к нему можно было относиться как к тирану (но тоже еще тирану, что называется, себе на уме), а можно было его трактовать и как абсолютно безумного убийцу.
Александр Генис:
Интересно, что Мейерхольд трактовал Ивана Грозного как ренессансную фигуру, и он говорил, что за Иваном открываются шатры, которые развевает вот этот ветер свободы, ветер гения. И он видел в нем такого тирана-гения. Но любопытно, что образ Ивана Грозного сейчас опять вернулся в русскую культуру, и крайне любопытным образом. Дело в том, что когда началась даже не перестройка, а когда уже перестройка кончилась, когда началась русская свобода, когда началась нынешняя ситуация, то главным историческим персонажем, которого политики всех направлений хотели видеть своим кумиром, был Петр Первый. Однако, не Петр, а именно Иван Грозный вернулся обратно в русскую культуру. Вот сейчас фильм вышел про Ивана Грозного - ""Царь"".
Но меня гораздо больше интересует интерпретация Ивана Грозного Сорокиным, который вернул в нашу культуру и этот образ, и этот язык. Я спросил у Сорокина, как ему удалось так ловко писать на языке Ивана Грозного - ведь это язык 16-го века. Он сказал, что у каждого русского этот язык на языке, нужно только снять тормоз и польется речь, которая понятна была опричникам.
Соломон Волкков:
И то же самое, между прочим, в значительной степени в музыке. У Римского-Корсакова, человека, который очень остро реагировал на общественные проблемы в своей музыке, две оперы связаны с Иваном Грозным - ""Псковитянка"" и ""Царская невеста"". ""Псковитянку"" он начал писать совсем молодым человеком, первая ее редакция относится к 1872 году, затем он сделал еще одну редакцию, но исполняется она обыкновенно в последней редакции 1892 года, и там Грозный трактуется как царь Грозный, в соответствии с литературной первоосновой драмы поэта Льва Мея, но как человек, что называется, весьма неглупый и здравый. Но интересно, что в увертюре Римского-Корсакова, которую я хочу сейчас показать, мы также ощущаем и эту зловещую ауру, которая неминуемым образом сопровождала даже такой, в общем, скорее позитивный взгляд на Ивана Грозного. Дирижирует Василий Синайский, Оркестр филармонии Би-Би-Си.
Александр Генис:
Соломон, вот эта зловещая аура, которую мы только что слышали в этом эпизоде музыкальном, мне кажется, что она напоминает музыку Прокофьева к фильму ""Иван Грозный"".
Соломон Волков: Безусловно. Прокофьев же был учеником Римского-Корсакова, и эта традиция петербургская так и прошла от Римского-Корсакова к Прокофьеву и затем к Слонимскому, который принадлежит фактически к этой же самой школе, который интересно и много писал о Прокофьеве. Он - замечательный знаток творчества Прокофьева. Кстати, он всегда жаловался, говорил мне, что к нему в Петербурге всегда относились как к белой вороне. Это город Шостаковича, а он был как бы последователем в большей степени Прокофьева. Но отношение Слонимского к Ивану Грозному безусловно отрицательное, и он его рассматривает как безумного кровопийцу.
Александр Генис: Потому что он уже прошел через опыт Сталина.
Соломон Волков: Конечно. И либретто для этой оперы, которая называлась ""Видения Иоанна Грозного"" (премьера ее была осуществлена в Самаре в 1999 году под управлением Мстислава Ростроповича, как дирижера) написал Яков Гордин, с которым Слонимский сотрудничает в оперной сфере.
Александр Генис: Замечательно. Яков Гордин, напомню, это соредактор журнала ""Звезда"" и наш общий друг и товарищ.
Соломон Волков: И автор либретто также и к другим операм Слонимского - ""Мариz Стюарт"" и ""Гамлет"". И вот это тот портрет царя, современный и, в то же время, связанный с историей, который отражается в увертюре Слонимского к его опере ""Видения Иоанна Грозного"".
Александр Генис: ""Толстой и музыка: война и мир"". Соломон, в нашей рубрике ""Война и мир"" все больше войны. И Толстой, при всем его темпераменте, конечно, он не мог устоять, и он воевал со всем музыкальным миром тогдашней России. Был музыкант, которого он любил?
Соломон Волков: Да, был. Это Александр Борисович Гольденвейзер, легендарная фигура в области музыки, пианист и композитор, учитель, выдающийся педагог, который воспитал не одного замечательного пианиста. И, вы знаете, я даже с ним познакомился.
Александр Генис: Сколько же ему лет было тогда?
Соломон Волков: Ой, он бы совсем старенький, такой сухонький весь. Я на него смотрел с невероятным почтением, зная, что это человек, который столько времени провел с Толстым, что об этом написал целую книгу. Эта книга у меня тогда была, и я ему дал ее надписать. И вот надписанная им эта книга и книга ""Лев Толстой о литературе и искусстве"" (он мне две книги надписал) до сих пор у меня хранятся здесь, в моей нью-йоркской библиотеке. Это такие драгоценности моего приватного книжного собрания. Так вот его и боялись, и уважали, и трепетали перед ним - он был невероятным авторитетом. А он, в свою очередь, был в молодости убежденным толстовцем, и в этом качестве как бы подружился с Толстым. Но, кроме того, Толстому, нравился Гольденвейзер, ему нравилось, как он играет, ему нравилось, что в шахматы он хорошо играл. Они с Толстым много играли в шахматы и даже есть фотография, где они изображены за шахматной доской. И Гольденвейзер был, что называется, личным, приватным пианистом Льва Николаевича. Люди занимались своими делами в той же Ясной Поляне, а Гольденвейзер сидел у рояля и играл самую разнообразную музыку.
Александр Генис: То есть, благодаря ему мы знаем, что любил Толстой?
Соломон Волков: Да. Но интересно, что он играл и то, что Толстому нравилось, и то, что Толстому не нравилось тоже. В частности, играл он ему и Чайковского, потому что Гольденвейзера с Чайковским связывала очень прямая линия, Гольденвейзер учился композиции у Аренского и Танеева, которые, в свою очередь, учились у Чайковского, были любимыми учениками Чайковского и, таким образом, Гольденвейзера можно назвать музыкальным внуком Чайковского. И вот когда я слушаю эту запись ""Сентиментального вальса"" Чайковского, то я себе так и представляю, как он сидит и наигрывает эту музыку, а Лев Николаевич, может быть, слушает, может быть, читает, и все другие занимаются своими делами - кто вяжет, кто просматривает газеты, кто другими какими-то хозяйственными делами занят, и над все этим витает вот этот ""Сентиментальный вальс"" Чайковского.
В нашей стране все делалось втихомолку, и нетрудно понять почему. Что же касается моего отца, никто еще не отважился описать все как было. Никто ни словом не обмолвился о его расстреле советскими властями в 1941 году, перед приходом немцев в Одессу. Правду я узнал лишь двадцать лет спустя, ведь все случилось в начале войны. Последний раз я был в Одессе за несколько недель до того. Я жил в Москве, лишенный всякой связи с родителями. Это самая темная страница моей биографии… Самая темная!
В начале 30-х годов, еще одесским юношей, я брал уроки композиции и теории у преподавателя столь скучного, что он отбил у меня всякую охоту сочинять музыку. Он был весьма ученый человек, получивший высшее образование в трех областях: право, геология и музыка и учившийся у Танеева в Санкт-Петербурге. Конечно, он не был совершенно бездарен, но я не выносил его, и стоило ему заговорить, как меня начинало неодолимо клонить ко сну. Сергей Кондратьев - именно так его звали тогда - сыграл зловещую роль в моей жизни. Я расскажу, как это произошло и почему.
В известном смысле, я сам стал виною всему. С Кондратьевым я связался через некоего Бориса Дмитриевича Тюнеева, довольно известного в Одессе музыковеда. Это был прелестный старичок, образованный, любознательный, но с сумасшедшинкой. Бородой он несколько напоминал Ивана Грозного. Лицо его непрерывно подергивалось из-за пережитых во время революции злоключений, страха, неотступно терзавшего его, после того как его обвинили в шпионаже.
Так вот, этот самый Тюнеев привел меня однажды к Кондратьеву и посоветовал брать у него уроки. Кондратьев преподавал композицию. Среди его учеников был даже весьма одаренный композитор, грек по рождению, Вова Фемелиди, создатель балета «Карманьола» с вполне приличной музыкой, намного лучше, во всяком случае, музыки других композиторов тех лет. В ней были места, которых не постыдился бы и сам Прокофьев. И теперь еще я храню в памяти полную партитуру этого балета, сочиненного под общим наблюдением Кондратьева и ставшего подлинным событием, когда его поставили в Одессе.
Во второй раз мы с Тюнеевым заявились к Кондратьеву, который вечно сидел дома, без предупреждения. Дверь была затворена, свет везде выключен. Войдя, мы обнаружили его лежащим на полу с вывалившимся языком. Удавился. Тюнеев хотел убраться как можно скорее, но я в свои пятнадцать лет удержал его, поднял на ноги соседей, чтобы они помогли бедняге. Его откачали.
Позднее я нередко связывал это происшествие с трагедией Гамлета, ибо если бы меня не оказалось в тот день, мне не пришлось бы нести ответственность за спасение Кондратьева - причины стольких грядущих несчастий для моего отца и для меня, и он отправился бы на тот свет, не успев навредить.
Он был сыном высокопоставленного чиновника при царе, происходил из немецкого рода, и подлинное его имя было немецкое. После революции ему пришлось скрываться, и тогда он впервые изменил фамилию. Затем он бежал из Москвы в Одессу в надежде спасти свою жизнь. Его друг дирижер Николай Голованов (и муж самой знаменитой российской певицы Неждановой) помог ему обзавестись поддельным паспортом, выехать из Москвы и исхитрился устроить его в Одесскую консерваторию.
Несмотря на измененную фамилию, Кондратьев явно не чувствовал себя в безопасности. Преследуемый страхом ареста, он вскоре оставил преподавание в консерватории, довольствуясь негласным преподаванием на дому. Вокруг него образовалась особая аура, молодежь валом валила, чтобы прослушать курс его лекций. Надо полагать, он был неплохим педагогом, но у него была мания: он безостановочно говорил. Вероятно, именно по этой причине я так и остался неразговорчивым.
Лучшие дня
Он утверждал, будто болен костным туберкулезом, пролежал в постели около двадцати лет и встал с нее лишь с приходом немцев. Это была симуляция, симуляция, продолжавшаяся больше двадцати лет!
Мама оказывала ему всевозможные знаки внимания, что, естественно, не было тайной для отца. Когда началась война, Кондратьев поселился у нас. С приближением немецких войск родителям предложили эвакуироваться, но, когда все было готово к отъезду, мать внезапно отказалась ехать под тем предлогом, что не было возможности забрать с собой «его». Отца арестовали и расстреляли. Это случилось в июне 1941 года.
Злые языки уверяли, будто причиной стало анонимное письмо, которое якобы послал Кондратьев, чтобы избавиться от отца. Состряпать под тем или другим предлогом донос в то время было, разумеется, несложно. Кондратьев был, конечно, личность сомнительная, невзирая на свое происхождение и воспитание, однако с трудом верится, что он совершил подобную гнусность.
Я узнал о гибели отца в 1943 году, во время моей первой поездки в Тбилиси. Мне не сообщили, как именно он погиб. Я лишь узнал о его смерти от женщины, которую помнил по детским годам. Она подошла ко мне на улице и заговорила. Она не внушала мне приязни, и я, движимый скрытой враждебностью по отношению к ней, сказал: «Да, я знаю», хотя не знал ничего. Просто мне не хотелось слушать ее. Лишь долгое время спустя я узнал, что произошло на самом деле. Моя мать и Кондратьев покинули страну в 1941 году вместе с немцами. Благодаря старым связям отца в германском консульстве они кое-как устроились в Германии и поженились. Кондратьев снова поменял фамилию и стал Рихтером. Я так никогда и не понял, как она могла позволить ему поступить так. Он говорил всем, что приходится братом моему отцу, а позднее, когда я приобрел некоторую известность в Советском Союзе, но ни разу не выезжал за границу, он в своей наглости дошел до того, что объявил себя моим отцом. Естественно, я не мог опровергнуть это, не будучи в Германии, и все поверили ему. Не могу описать бешенства, закипевшего во мне, когда, уже много лет спустя, я услышал во время турне по Германии: «Мы знаем Bainero отца», «Ihr Vater! Ihr Vater!» После девятнадцатилетней разлуки я вновь увидел мать в 1960 году в Америке, куда она прилетела с мужем на мой дебют. Встреча не обрадовала меня. Позднее я навестил их в Германии, ибо надеялся побывать с матерью в Байрейте, о чем давно мечтал. Остановившись перед их домом, я увидел на дощечке, прикрепленной к воротам, надпись: «С. Рихтер». «А при чем здесь я?» - мелькнуло у меня в голове, но тут я вспомнил, что его зовут Сергеем.
Мать изменилась совершенно, он околдовал ее своими бредовыми разглагольствованиями, не отходил от нее ни на шаг, не давал вставить слова, даже когда она была со мной, трещал безостановочно. Из-за его патологической болтливости с ним невозможно было общаться. На прощальный ужин в Нью-Йорке, завершавший мое первое турне по Америке, собралась вся моя родня со стороны Москалевых, люди, не имевшие ни малейшего отношения к музыке. Тем не менее за ужином он безостановочно толковал о гармонии у Римского-Корсакова. Это не интересовало решительно никого, но остановить его было совершенно невозможно. Когда я вновь навестил их в Германии, незадолго до кончины матери, она лежала в больнице. После того как я проведал ее, мне нужно было где-то переночевать, и мне пришлось отправиться к ним в Швебиш-Гмюнд под Штутгартом. Я приехал к ним из Парижа и на другой день рано утром должен был вернуться туда же, потому что предстояли новые концерты. Мама просила его: «Пожалуйста, Сергей, не болтай слишком много. Обещай мне, что через полтора часа ты дашь ему лечь спать». Но он жужжал до шести утра. Я лежал на спине, давно уже перестав слушать, а он все бубнил и бубнил. Все то же суесловие, тысячи раз слышанное мною: музыка, события, бу-бу-бу, жу-жу-жу… Как был маньяк, так им и остался!..
Но самое ужасное случилось на моем сольном концерте в Вене. Накануне концерта я приехал из Италии после выступления на фестивале «Маджо фьорентино» и был в неважной форме. И вот он заявился ко мне вдень концерта: «Моя жена умирает!» Сказать мне такое! Вот так, вдруг!
Я никогда еще не выступал в Вене и с треском провалился. Критики случая не упустили: «Abschied von der Legende» («Конец легенды»).
Я и правда ужасно играл.
Личная жизнь Святослава Рихтера всегда была закрыта от глаз посторонних. О ней было известно, что Рихтер состоял в браке с оперной певицей Ниной Дорлиак, и впоследствии его биографы указывали на то, что этот брак был фиктивным. Много говорили и о его гомосексуальности, однако сам музыкант эти разговоры никогда не комментировал. Поэтому настоящей сенсацией стали воспоминания о Рихтере женщины, которая была его настоящим другом на протяжении шестидесяти лет, - Веры Ивановны Прохоровой (1918 - 2013).
Для начала стоит сказать несколько слов и о самой Вере Ивановне. Ее судьба кажется романом, в котором отразились все перемены, произошедшие со страной в ХХ веке. Ее отец был последним владельцем Прохоровской Трехгорной мануфактуры, двоюродный прадед - Сергей Петрович Боткин, лейб-медик Александра II и Александра III, двоюродный дед со стороны матери - Александр Гучков, председатель Третьей Государственной думы, военный министр в правительстве Керенского. Сама она, выбравшая профессию преподавателя иностранных языков, в 1951 году была осуждена на 10 лет «за измену Родине» и освобождена в 1956 году по ходатайству многих известных людей, в т.ч. Святослава Рихтера.
Жизни Рихтера посвящена одна из глав книги Веры Прохоровой «Четыре друга на фоне столетия», опубликованная в 2012 году (литературная запись и оригинальный текст журналиста Игоря Оболенского).
Вера Ивановна и Святослав Теофилович (которого она называла Светиком) познакомились в 1937 году, в доме пианиста Генриха Нейгауза, где Рихтер жил, когда учился в Московской консерватории.
«Ко мне подошел улыбчивый молодой человек и помог поднять шубу. Он поднял ее, и мы захохотали. И я подумала: до чего же милый и приятный человек.
Слава, - представился он.
Вера, - ответила я.
Между нами сразу проскочила какая-то искра взаимного притяжения. И, улыбнувшись в ответ на улыбку Рихтера, я почувствовала - этого человека я знаю очень давно...»
Поддерживая друг друга, Вера Прохорова и Святослав Рихтер пережили несколько трагедий. В 1941 году был арестован Генрих Нейгауз (формально за отказ эвакуироваться). У Веры арестовали дядю, тетю и двоюродного брата. Приходили и за Рихтером - ареста удалось избежать чудом, из-за ошибки в повестке.
Но настоящим ударом для Рихтера стал расстрел отца и предательство матери. Отец, Теофил Данилович, органист Одесского оперного театра, был арестован по ст. 54-1а УК УССР (измена родине) и расстрелян за 10 дней до начала оккупации.
О гибели отца Рихтер узнал только после освобождения Одессы в 1944 году. Тогда же он узнал о том, что виновницей его расстрела была мать, Анна Павловна, которую сын очень любил. У нее был роман с неким Кондратьевым. И когда Теофилу Даниловичу в начале войны предложили эвакуироваться, она отказалась, потому что Кондратьев уехать в эвакуацию не мог. А если немец в те дни отказывался уехать, вывод мог быть только один - он ждал фашистов. После расстрела Теофила Даниловича Кондратьев женился на Анне Павловне, взял ее фамилию и когда оккупанты уходили из Одессы, ушли вместе с ними и переселились в Германию.
В 1960 году Рихтер впервые после долгой разлуки встретился с матерью, после этого он несколько раз приезжал к ней и даже однажды потратил все заработанные на гастролях деньги на ее лечение, когда она заболела (отказавшись сдать гонорар государству, что вызвало большой скандал). Но предательства не простил. Более того, эта трагедия стала для него крушением веры в людей, в возможность иметь свой дом.
И именно она, по мнению Веры Прохоровой, способствовала тому, что Рихтер стал гражданским мужем Нины Дорлиак - женщины очень жесткой, подозрительной. Подлинного взаимопонимания между ними, по словам Веры Прохоровой, не сложилось.
«Раздражалась, что Слава мог радоваться жизни, людям, молодежи.
Возмущалась, как Рихтер мог отвечать на все письма, которые получал.
Как вы можете писать всем этим ничтожным людям! - говорила она.
Почему „ничтожным“? - удивлялся Светик. - Для меня все люди одинаковы».
Кроме того, она полностью распоряжалась его финансами - если Рихтер хотел помочь кому нибудь (например, вдове Михаила Булгакова), ему приходилось занимать.
Немало в своих воспоминаниях Вера Прохорова рассказывает и о племяннике Нины Львовны - «Митюле». Дмитрий Дмитриевич Дорлиак (р. 1937) был сыном брата Нины Львовны, актера театра Вахтангова, умершего очень рано, всего в 26 лет.
«Нина обожала, причем болезненно, только своего брата и племянника Митюлю. Этот Митюля был ее главной болью. Она переживала, что тот неудачный актер. «Слава, вам повезло, - говорила она Рихтеру. - А вот мальчик бедный, ему не повезло». Светик рассказывал мне, как после удачного концерта, который он дал, к нему явился этот самый Митюля и заявил: «Вы - бездарность! Думаете, это очень сложно? - и забарабанил пальцами по столу. - А я, - продолжал он, - последний Дорлиак!»
Стараниями Нины Львовны именно этот человек стал наследником Рихтера. В частности, ему досталась дача на Николиной горе, которая впоследствии была продана за 2 млн долларов, при этом бесследно исчез рояль Рихтера. Понимая, что произойдет после его смерти, Святослав Теофилович передал всю свою коллекцию картин в Пушкинский музей.
В последние годы Святослав Теофилович страдал от депрессий, усугублявшихся его болезнью, из-за которой он часто отменял концерты. Несколько лет он прожил в Париже - городе, который любил, но в котором он, в то же время, ощущал себя оторванным от родины и друзей. 6 июля 1997 года он вернулся в Россию.
«Мы с ним сидели у него на даче на Николиной Горе за шесть дней до его кончины. Он верил в будущее, говорил, что через год начнет играть... <...> Вспоминал Звенигород, в котором придумал проводить свой фестиваль. Говорил: «Знаешь, Випа, меня, наверное, опять повезут на море. Мне нужен еще один год, прежде чем я начну играть. Я понемножку уже играю».
«За несколько минут до смерти Рихтер сказал: «Я очень устал».
Мне потом это передал сам врач, к которому обратился Светик».
1 августа 1997 года Святослав Рихтер скончался в Центральной клинической больнице от сердечного приступа.
Представитель Национального объединения Янис Иесалниекс возмущен поведением участников Европрайда, который проходил в Риге в июне 2015 года. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
"У представителей Европрайда нет ничего святого! Сегодня, в день траура они устраивают выставку карикатур и поп-концерт! Таким образом, они показывают свое отношение к жертвам советской оккупации", - считает Иесалниекс.
Источник: Геев и лесбиянок обвинили в неуважении к жертвам оккупации
http://baltijalv.lv/news/read/26020
Тема нетрадиционной любви не способствует повышению рождаемости,
соответствет ственно и главной тематике нашего сайта (товары для детей). Но тема эта в последнее время доминирует и в политике, и в искусстве, и в общественных отношениях. Поэтому эту страницу посвятим розовой, голубой и прочей нетрадиционности.
Гомофобию и прочее не найдёте, нам чисто пофиг. Извращенцам тоже будет не интересно, никакой клубнички. Просто ссылки.
Итак, ссылки по теме нетрадиционной сексуальной ориентации:

Самые известные геи Латвии- полумифический рижский ресторатор
Ровенс Притула, которого желтая пресса называет возлюбленным Димы Билана
И вполне реальный глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич, который неоднократно был центром нескольких громких историй, например, с «черным списком» или каминг-аутом, когда написал в Твиттере, что гордится своею ориентацией..

Минута славы человека, никому доселе за пределами Латвии не известного, но о котором теперь узнали повсюду. И все теперь знают, кто такой этот человек.
Россия, как известно, несколько больше Латвии, поэтому и геев в ней больше:
ТВ
С геями на телевидении связано множество трагических историй. За последние годы несколько убийств телеведущих и журналистов моментально обрастали уверенными слухами о сексуальной подоплеке произошедшего.

Всю страну потрясло шокирующее известие о рождении в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой близнецов. Однако даже относительно недавняя свадьба с «дамой сердца» и такое прекрасное событие, как рождение детей, пусть и суррогатных, не могут переубедить сомневающуюся в его ориентации общественность. Ведь Максим далеко не единственный отец в отечественном шоу-бизнесе, подозреваемый в нетрадиционных сексуальных предпочтениях. Мы нашли еще как минимум семерых.
(Всего 8 фото)
Многие помнят Андрея Гаврилова как чуткого музыканта и вдохновенного пианиста. К сожалению, всё это — далёкое прошлое. Попав в своё время в постель к Святославу Рихтеру, Андрей Гаврилов буквально «пошёл по рукам», неумело прикрывая свои любовные пристрастия многочисленными женитьбами.
К тому же, шампанское Гаврилову ударило в голову настолько основательно, что артист перестал считаться с чем-бы то ни было. Войдя в раж, он стал «поганой метлой» мести по своим коллегам и товарищам. Во, например, его скандальное интервью «Известиям», данное в 2004 году. Поражает уровень спеси и «шапкозакидательства», неслыханный даже по российским меркам. Что это, очередное проявление «загадочной русской души»? Или это откровения пьяного шизоида? Интервью прокатилось широким эхом по стране и вызвало многочисленные реакции, ряд которых мы публикуем ниже.
В Московском международном доме музыки состоялся благотворительный концерт в пользу Центральной музыкальной школы города — знаменитой ЦМШ. Сразу после концерта его инициатор, всемирно известный пианист Андрей Гаврилов дал интервью обозревателю «Известий».
— Незадолго до отъезда из СССР вы с Гидоном Кремером дали в зале Института им. Гнесиных потрясающий концерт. Чего стоил ваш бис — вы вышли с красными гвоздиками в руках и исполнили сюиту Исаака Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта».
— Это же было седьмое ноября, 1978 год. И мы хотели как-то отметить революционность момента. Ну и, разумеется, получили скандальчик: после этого меня хотели в очередной раз выпереть из консерватории, но спустили на тормозах. Хотя насчет гвоздик — это была не моя инициатива. Мне политика всегда была по фене. Это Гидон был очень политически заостренный господин, он меня таскал на всякие диссидентские лекции, на крышу Кабакова, на лекции Травкина, на всевозможные дебаты — в общем, интеллектуально развивал как младшего товарища. Самое главное, что ему все с рук сходило, а меня почему-то всегда ловили.
— В конце концов вам пришлось уехать. Как это было?
— Это абсолютно политическая история, связанная с ужасной мерзостью. Основана она на частной инициативе Гали Брежневой. Потому что я случайно узнал об их манипуляциях с героином и бриллиантами через свою молодую подругу — она была задействована в цепи этих drug traffics. И по прямому указанию Брежнева меня должны были шлепнуть. Тот перепоручил дело Андропову, а тот — своему помощнику Бобкову. Но он был не дурак. Он решил меня не убивать физически, но медленно морить. Хотя некоторые покушения все же были, но какие-то вялые — видимо, правая рука не знала, что делает левая. Помните, тогда был бойкот американцев, связанный с Афганистаном, а я, наоборот, ходил каждую неделю в американское посольство смотреть новые американские кинофильмы. И однажды там какие-то наши квазипьянчужки вдруг ко мне прикололись, смотрю — пистолет достали и мне в лоб целят. Видимо, это агенты были какие-то — так что пришлось американским солдатикам меня защищать. Была еще пара эпизодов — делалось это тривиально и вульгарно, очень безвкусно, без всякой интриги. Вот когда я в Лондон от господина Бобкова удрал, это было симпатично.
— Как же вам удалось обмануть недреманное око КГБ?
— Я думаю, что господин Бобков до сих пор не может мне это простить. Кстати, он сейчас начальник охраны Владимира Гусинского. Вообще забавно: все те ребята с Лубянки, которые меня тогда обещали нигилировать, сегодня частью у Гусинского, частью у Березовского — все по частникам разбежались, смешные. А что до Бобкова, то за всю его карьеру его обманули два человека — Солженицын и я.
Это история совершенно из раздела «шпионские страсти». Годы 1982-1983 были очень смешные, с некоторой склонностью к гуманизму. Бобков, как все грамотные люди, потрясающе тонко чувствовал, куда ветер дует. Когда генсеки кончались один за другим (помните эту «пятилетку в три гроба»?), Бобков решил играть гуманиста и изобразил доверие ко мне. А я сыграл на его доверии. Несколько раз я побывал на нейтральной территории — это были Польша, Чехия и Словакия. И эти визиты я использовал для записи с английской фирмой EMI, с которой я был законтрактован. И всем этим руководил Бобков.
В конце концов и в этом были задействованы большие политические силы, я добился выезда в Англию, тоже на записи. До этого Бобков года полтора-два меня проверял, и я ни разу не прокололся. Так что уехал я практически правой рукой Бобкова. В Англии я сразу записал пластинку и через своего бывшего продюсера сообщил мадам Тэтчер, чтобы она потревожила советские власти в связи с моей безопасностью. Мадам была очень довольна. И меня под крышей английской разведки Мi-5, той, откуда Джеймс Бонд, стали перевозить с места на место. Агенты там действительно все под номерами, например агент ХХХ или агент ZZ. В общем я вдруг пропал. В СССР в этот момент скончался господин Черненко, и пришел молодой, кипящий Михаил Сергеевич, которому Мэгги написала письмо открытым текстом, потому что у них уже тогда были хорошие личные отношения. Михаил Сергеевич немедленно отреагировал — и я стал первым свободным советским человеком с советским паспортом, где стояла безвременная виза по пересечению всех границ за подписью мадам Тэтчер и господина Горбачева.
— И так сказочно-благополучно закончились ваши отношения с родным КГБ?
— Да нет, это лишь скелет истории. Там были и гонки, и секретные встречи — совсем как в шпионском фильме. Англичане меня возили на черном «Ягуаре» с затемненными стеклами. Они сами были очень дискретны — иногда я сам их терял. Каждый день мы меняли отели, в основном это был север Англии. А я был всегда в темных очках, в бобровой шубе — совсем по Агате Кристи, но и холодно было все же. И в очередном отеле в reception дама спрашивает мой домашний адрес. Какой же у меня адрес — Никитский бульвар, что ли? И паспорта у меня не было, это был еще момент негоции. Я замялся, и это был мой самый большой прокол. Она тут же настучала в Скотланд-Ярд, что она, такая активная, словила, мол, террориста, и наш отель немедленно оцепили. Надо понимать, что Скотланд-Ярд — это обычные менты, а Мi-5 — суперкагэбэшники, и вражда у них та же, что и у нас. И вот мы сидим в оцепленном отеле, и мои Мi-5 ломаются от хохота: «Смотри, вон там господин с газеткой и там, и там — это тебя брать пришли!» Как в «Мастере и Маргарите»! Я говорю: «Чего делать-то?» Они говорят: «Ничего страшного». Оказалось, у них там был предусмотрен подземный ход, и мы — прыг в наш «Ягуар» с дымчатыми стеклами, а менты — при пустом отеле. Ну хохочем, «носы» показываем и едем в следующее место.
Периодически ко мне из Мi-5 приезжал господин ХХ или ZZZ с сеансом политинформации, рассказывал об отношениях между Англией и СССР. И однажды сказал, что у них сильное напряжение из-за меня, потому что есть подозрение, что я все это делаю не по своей воле. А печатали в газетах вовсю, что в моей истории задействованы психотропные средства. В общем, говорит, им нужна встреча и нам нужна встреча. Я отказывался раз пять: советских ни в каком виде видеть не хочу! Но однажды приехал мрачный господин в котелке опять же из Мi-5 и сказал, что английское правительство испытывает очень большой кризис. И в этот момент какая-то сволочь дала утечку информации. В очередном отеле я иду завтракать, кушать свой горячий маффин с кофейком, разворачиваю Тimes, а там — моя морда на первой полосе. Опять приезжает мрачный котелок и говорит: «Вот видите, если бы вы встретились с русскими, ничего бы не было. А теперь у английского правительства еще больший внутренний кризис». Ну я сдался, поехал к нашим на встречу.
— И как вас встретили бывшие соотечественники?
— Не встреча была — песня. Как они нервничали! Самый спокойный был я — видно, меня настолько закалили все эти дела. Но у меня другой характер — я потом все переживаю. В самых пиковых ситуациях я холоден как лед, а через год может наступить реакция. Я думаю, мне было бы хорошо быть дуэлянтом — убивал бы хладнокровно всех подряд. Так вот — мы встретились, и тут оказалось, что обе стороны, вооружившись самыми лучшими переводчиками-синхронистами, элементарно ничего не понимают. Я переводил и одним, и другим — кино!
— Как вы приспособились к английскому менталитету?
— Ну, начать с того, что у меня не было проблем с языком. У меня с детства была гувернантка — настоящая англичанка. У нее был чудный английский. Она была суровая дама, от нее я получил крепкую английскую закваску в смысле ощущения некоторой отстраненности и критического отношения к себе, что у славян сильно хромает. Мы страшно любим себя жалеть и не умеем иронизировать над собой же. Хотя смеяться над самим собой — это же как зубы чистить, необходимая ежедневная душевная гигиена.
— Вы — любимый ученик Рихтера. Как вам его «Дневники»?
— Я читал их с большим юмором — потому что это совсем не Святослав Теофилович. Там нет Рихтера-человека — там все фальшиво. Но, беседуя о нем на форуме, в Интернете, я пришел к выводу, что здесь, в России, люди не готовы к адекватной реализации этой фигуры, которая до сих пор идеализирована и не имеет никакого отношения к реальному человеку, которого я очень хорошо знаю. Человеку опасному, невероятно противоречивому, с огромным количеством негативных, черных душевных черт — здесь его пока просто не поймут. Те, кто идеализирует Рихтера, занимаются именно тем, что и господа, бальзамировавшие Владимира Ульянова. Это то же самое. Но я-то знаю настоящего Рихтера. Это был великий имиджмейкер. Он не знал таких слов, но всю жизнь старательно выстраивал свой имидж там — и здесь. И они были совершенно противоположными. Я никогда не забуду, как мы с ним переезжали на машине границу между ГДР и ФРГ. В ГДР — такой же, как здесь: костюм, рубашка, галстук. Переехали в ФРГ — открытая грудь, цепи, как у юродивого, громадная флорентийская лилия. Он всегда был нарциссом — смотрелся в витрины магазинов, а под конец жизни ему вообще изменял вкус. Ну, например, как можно закончить фильм обо всей жизни словами: «Я себе не нравлюсь»? Это же такая пошлятина! А что касается дневников, то он плохо владел словом, его сильной стороной были мимика и жестикуляция — вот тут был Слава живой. Когда же он пытался что-то формулировать, это была катастрофа: логическое мышление у него отсутствовало полностью, писать он вообще не умел, у него было три класса образования, сочинений в жизни не писал. Одно искажение — мысль сказанная, второе — написанная и третье — мысль, выраженная с расчетом на что-то. В этом смысле его «Дневники» — искажение в кубе.
— Почему же мир считал его великим?
— Потому что он и был великим дарованием. Он перерос рамки просто пианиста, он был художник настоящий. В то время, когда он творил, в его лучшие периоды, в 1960-е и ранние 1970-е, он, на мой взгляд, добился того, что, будучи продуктом советской системы, прострелил время, и именно это страну двинуло вперед. Я вот недавно разговаривал с одним немцем, очень опытным промоутером с сорокалетним стажем, заговорили о Рихтере, и он говорит: «А я всегда воспринимал его как лапидарного строителя, немного скучноватого». Это в СССР Рихтер был иностранец с совершенно другой эстетикой. То, что здесь было оригинально, там было обычно. И, конечно, для меня его феномен был связан с очень большой оторванностью и девственностью СССР — тогда до него не дотягивали, он ушел вперед на тысячу голов и тысячу световых лет. А на Западе он пытался играть экстравагантного, свободного гомосексуалиста, и это никогда не скрывалось. Слава очень хорошо знал, как себя вести в Париже: ага, грудь нараспашку, флорентийская лилия, публичные заявления с непередаваемой интонацией:»Oui, je suis egoiste» и все прочие атрибуты. А вот в Германии он не нашел чем нравиться. Так что человек он противоречивый, неоднозначный, большой азартный игрок между двумя системами. В нем было очень много жестокого, циничного и непростительного в поведении и характере, и в России, повторяю, не готовы к настоящему Рихтеру.
— Кто ваши любимые композиторы?
— Я бы не так поставил вопрос — кто самый умный. Для меня самые несчастные фигуры — Моцарт и Шопен. Потому что непонятые — ни в свое время, ни сейчас. Самая большая ошибка — играть Моцарта спокойно. А ведь это был неврастеник. Или Шопен — он по-настоящему разговаривает с нами, если уметь его слушать. Фредерик, он ведь не дурак был, и он добился такого мастерства, когда у него каждая нота говорит. Для меня у него ни одной загадки нет. Это не то что я хвастаюсь — я к этому шел всю жизнь. Я только месяца три-четыре как стал понимать его. И если я стану расшифровывать словами каждый его такт, это займет полкниги. Потому что там огромное количество ассоциаций, которые так легко объяснить в музыке, но на бумаге объяснять долго. Например, в одном его ноктюрне так ясна отдаленная пушечная канонада, а над ней — сам Шопен, который страдает по родине. Это и надрыв, и вскрик, и тихая печаль — все можно расшифровать. Мы забываем, что даже когда он друзьям самым близким играл, он сорок минут искал «голубой» звук. Ему было важно его найти — и для этого он импровизировал бесконечно, пока не находил его. Он умел музыкой изображать смех, слезы, оргазм, и вся компания во главе с Мицкевичем и Делакруа от души забавлялась этой очаровательной игрой.
— Сегодня эти интеллектуальные занятия мало кому понятны — забыты и утеряны.
— Я помню, что с Рихтером мы однажды соревновались таким образом — Святослав Теофилович в этом деле понимал. В Париже нам надо было играть Генделя, и мне нужно было импровизировать большую ля-минорную прелюдию — ее нет, она не написана. И Рихтер говорит: «Андрей, а вы импровизируете на темы?» Я, конечно, в ответ: «На какие?» Он говорит: «Ну, вообще на темы. Ну сыграйте мне камень». Ну стал я камень играть. Тогда он говорит: «Теперь вы мне что-нибудь задайте». Я предложил: «Давайте облака».
— И как Рихтер их изобразил?
— Такие жирные облака у него получились. Так мы играли до тех пор, пока кто-нибудь не засыплется. И Слава засыпался на мухе — он не смог. А у меня получилась такая муха в стакане — звенящая, знойная. Слава меня расцеловал и сказал: «Вы победили». На фортепьяно можно все показать и все сказать. Я иногда с женой разговариваю музыкальной импровизацией — лучше, чем звуками, словами не скажешь.
— Чем вы гордитесь в жизни?
— Сыном Арсением. Ему два с половиной года, он живет в Люцерне. Но вообще я хочу пятерых. Его мама стонет, и пока мы договорились на троих.
— Как вы с женой познакомились?
— Очень просто: я очень деловой человек, и это было похоже на женитьбу Шостаковича. Он сказал невесте: «У меня есть тридцать минут — выходишь за меня или нет?» Она подумала — и вышла. Так и я: приехал в Москву и встретил студентку, которая брала уроки у моей матери. Мне очень понравились ее глаза, а самое главное — Юка очень хорошо делала массаж, а у меня очень спина болит. И я на следующий день взял ее с собой в Испанию — и больше не отпустил. Мы сделали мировое турне, а потом поженились. Она правнучка адмирала Кобаяши, который русских разгромил под Цусимой. А теперь я японцам мщу.
— Есть что-то, о чем вы жалеете?
— А как же может сочетаться сила воли и неврастения?
— Здесь нет противоречия — это просто две стороны одной личности.
— Как вы поддерживаете форму?
— Плавание, массаж. В свое время, когда Бобков меня довел до ручки, я придумал, как я могу сбросить свой адреналин. У меня давление стало подниматься чуть не до трехсот, были кризы, и я организовал футбольную команду в Московской филармонии. Мы стали чемпионами Москвы, и я тренировал их как сумасшедший. Я рисовал схемы игры, специально встречался с каждым, чтобы дать установки на матч.
— Кто был в вашей команде?
— Валера Гергиев был очень хороший игрок, но совершенно бестолковый. Он бежал быстро, но почему-то всегда в другую сторону, его надо было все время направлять. Он великолепно играл на тренировке, но на игре терялся, да еще перед ответственным матчем сломал ногу. Лексо Торадзе был великолепный игрок, Овчинников тоже отлично играл, а вот Плетнева мы не заманили — он предпочел бадминтон.
— У больших музыкантов не может не быть срывов, тем более вы обмолвились о том, что пережитое отзывается потом. Как вы преодолеваете неизбежные стрессы?
— В моей жизни был период, когда я молчал семь лет — с 1993 по 2000 год. Я полностью запутался. Очень трудно быть уверенным в себе, чтобы понять, что ты один прав, а весь мир в ж… Такие мысли на грани психбольницы. А чтобы это еще и проверить, нужно время. Я хотел два года это проверять, а получилось семь лет. И с очень тяжелыми кризисами. Однажды я свалился на восемь месяцев: лег в кровать в августе, а встал в мае. Просто от мозгового истощения. Потому что так напряженно мне надо было все переработать и передумать. А потом мне пришлось заново учиться играть на фортепьяно. Не потому, что я растерял свои навыки, а потому, что они оказались для другого музицирования, которое ведет в сторону от проникновения.
— Что вы себе говорили в эти месяцы отчаяния?
— Да ничего. Я даже глаза не открывал. Я лежал на своей громадной вилле, этажом ниже был собственный фитнес-центр, в который я вгрохал два с половиной миллиона, там был пятисотметровый бассейн — и я туда ни разу не спустился. Не было сил с кровати встать. Это был полный духовный слом. Многие приезжали и умоляли подняться. Даже из Москвы друзья приезжали, особенно я помню одного здоровенного парня, так он на коленях стоял, рыдал: «Андрей, встань!» Я не реагировал.
— Вы же были таким успешным человеком.
— А чем больше успех, тем больше разочарование. Такие были, как русские говорят, вилы, что невозможно было их удержать. С одной стороны, я приз за призом выигрывал, миллионером становился, а с другой — все меньше себя уважал, даже презирал. Потому что играл плохо, мыслил плохо. Я оказался просто в темноте. Я перепробовал всю мировую философию, пожил с папуасами, только на Тибет не поехал, потому что уже понял, что это то же самое. Я был в Палестине, посидел в Назарете, сорвал цветочек, понюхал — ничего у меня не шелохнулось. Пошел к Стене Плача, плюнул на нее, приехал домой — и лег. Я страшно похудел, стал как скелет.
— Что заставило вас подняться с постели?
— Приехал мой друг с письмом от Шери Блэр, где она меня умоляла сыграть в лондонском парламенте. Мой друг просил ее не огорчать, что должно было быть подкреплено подписью. Ну подпись-то я сделал полусознательно, но ехать никуда не собирался. А через две недели приехал англичанин и сказал, что меня велено доставить в парламент. И я там от страха спрятался в сортире и не выходил. В конце концов меня вытащили, и мне пришлось играть в парламентском зале. Рояль поставили прямо посередине, так что деваться было некуда. Старались ребята, чтобы я не ушел в ничто. На старом русском хорошем языке это называлось — впадение в ничтожество.
— Вы уверены, что это не повторится?
— Тогда у меня не было идеи, и я не видел пути. А сейчас у меня такое количество идей, на воплощение которых мне надо лет сто пятьдесят мышечной активности.
— Вам удается прочувствовать российскую культурную ситуацию?
— Каждый приезд я стараюсь посмотреть и услышать все. Но если вы хотите знать мое мнение, то в искусстве я очень радикален в высказываниях, но я считаю, что это абсолютно объективно. Если произведение — г.., я так и говорю. Раньше это вызывало какую-то профессиональную обиду, произведения почему-то отождествляли с производителями. За это ко мне прицепили модный ярлык экстравагантности. Нет, я просто считаю, что в искусстве мы обязаны быть честными, потому что у каждого есть своя эстетическая позиция и он должен ее отстаивать, иначе будет сплошной миш-маш. А если все подлаживать под политкорректность, то зачем спрашивать?
— Вы живете в Швейцарии. Почему именно там?
— Это был долгий путь. Раньше я Швейцарию ненавидел — для меня это было кладбище. Я приезжал на Люцернский фестиваль, играл — и тут же на машине обратно. До такой степени мне все казалось там приторно-сахарным. А потом когда мы с Юкой, сначала моей массажисткой, а потом женой, стали выбирать, где жить, я задумался. Англия? Нет, в одну водичку два раза не вступишь — и я не тот, и Англия не та. И потом, я англичан уже насквозь знал. Заехали в Швейцарию — и мне вдруг понравилось. Я понял, что проблема была не в Швейцарии, а во мне. Когда раньше у меня был ад в груди, тот рай в декорациях вокруг меня раздражал до потери сознания. А когда я приехал без ада в груди, я почувствовал, что это мое место. Все надо искать в себе. А самое главное, что эти внутренние изменения происходят так медленно и непредсказуемо, что здесь ни один психоаналитик не поможет. Помогают только сила и вера в себя. И надежда, с которой надо жить каждую минуту — как только глаза откроешь с утра. Вот это ценится на Западе, считается хорошим тоном.
— Вы кем себя чувствуете — русским, бывшим советским, европейцем?
— Только не советским — я никогда им не был. Сейчас даже не русским. В СССР я был обычный карбонарий, как все: держал фигу в кармане и плевал на правительство. А когда я с этим антирусским, антиправительственным настроением приехал в Европу, пришел к выводу, что я самый большой болван. И оттуда началась моя школа в том смысле, что чем больше мы против, тем больше мы — за.
— Вы помните, как впервые подошли к роялю?
— Как только встал на ноги. А первое произведение, которое я сыграл целиком, — «Реквием» Моцарта. Его транслировали по радио, я рыдал-рыдал и тут же сыграл маме. Она натурально хлопнулась в обморок. Мне было года три. И вот с тех пор началась моя жизнь пианиста.
А вот, что на приведённое выше интервью ответил профессор Николай Петров, знаменитый пианист.
Причина моей реплики весьма далека от музыки. Она вызвана тем, что в человеческих отношениях господин Гаврилов руководствуется развязным стилем, соответствующим его поведению на эстраде. По сути, я бы хотел назвать мою реплику «Это я, Андрюшенька» — по аналогии с мерзейшей книгой господина Лимонова «Это я, Эдичка». Третий день у меня в доме не смолкает телефон — люди с удивлением, я бы даже сказал с оторопью, спрашивают, читал ли я это интервью? Почему именно мне звонят? Дело в том, что в моем классе в Консерватории существует такой термин — «гавриловщина», под которым я подразумеваю определенный метод фортепианной игры. И я умоляю своих учеников избегать этой манеры, поскольку речь идет о грубом, неопрятном, неуважительном отношении к роялю.
Прочитав интервью господина Гаврилова, я был совершенно потрясен, поскольку я никогда не предполагал, что ложь может быть такой беспардонной, столь открыто декларируемой, с претензией на убедительность и столь отталкивающей и мерзкой. Очевидно, господин Гаврилов считает, что нас, кто отлично помнит все его многочисленные попытки покинуть, по его словам, ненавистную ему Россию, уже просто не существует. Он утверждает, что никогда не был советским. И это верно — потому что он пытался всеми правдами и неправдами покинуть страну через своих жен — сначала через югославку, потом через японку, потом через дочку Валерия Климова и Раисы Бобриневой — я предполагаю, что именно в этот момент в результате взаимодействия с определенными силовыми структурами его несколько прижали.
А после этого у господина Гаврилова как раз и началась громадная дружба со Святославом Теофиловичем Рихтером. Я абсолютно не желаю вдаваться в подробности, сколь глубоки и многогранны были их взаимоотношения, об этом мы узнаем только на том свете. Но меня потрясло в этом интервью колоссальное неуважение, с которым этот еще в меру молодой господин говорит о человеке, благодаря которому он получил определенное реноме в мировом музыкальном мире. А по словам Гаврилова, Рихтер остался далеко позади него — это я цитирую другое его интервью, где он позволяет себе сказать об этом великом музыканте, что, дескать, «был такой музыкант, известный в свое время во Франции, но я ушел значительно дальше». Мне иногда попадаются под руку его интервью, и я знаю, что близких себе людей господин Гаврилов называет «бананами», и когда я читал его интервью в вашей газете, у меня сложилось ощущение, что всех читателей «Известий» он также считает «бананами». Но это далеко не так. Например, его отношения с господином Бобковым, который являлся в те времена одной из самых могущественных фигур в КГБ, позволяют только предполагать, с каким же званием господин Гаврилов выехал из СССР на Запад. Потому что просто так пройти мимо этого человека было невозможно. Он утверждает, что сумел обмануть доверие господина Бобкова, но я считаю, что волшебное превращение господина Гаврилова в западного космополита произошло не благодаря тому, что к власти пришел Михаил Горбачев, и не благодаря вмешательству «Мэгги», как он позволяет себе называть госпожу Маргарет Тэтчер, а только благодаря тому, что он женился на дочке президента Русско-английского банка, госпоже Алхимовой. Ее отец был очень уважаемый человек — герой войны, Герой Советского Союза. И именно в тот момент, когда состоялся этот брак, у Гаврилова, как по мановению волшебного жезла, появилось то, о чем не могли даже мечтать ни Ростропович, ни Коган, ни Гилельс, ни Ойстрах, ни Рихтер. Он получил свободный паспорт, особые финансовые условия в то время, когда всех без исключения исполнителей беззастенчиво обкрадывал Госконцерт, а также право ездить по всему миру с женой, что тогда было категорически запрещено или разрешалось в редчайших случаях. Все это происходило на глазах у изумленных коллег, которые ничего не понимали, и я думаю, что в то время упомянуть фамилию господина Бобкова для господина Гаврилова было бы слишком рискованно. Поэтому я думаю, что только сейчас, когда прошло больше двадцати лет, он позволяет себе рассказывать о своих отношениях с Бобковым.
Этот бесстыдный стриптиз, который выдал господин Гаврилов в нынешний приезд, на мой взгляд, недостоин порядочного человека. Я счел необходимым выступить в защиту великого музыканта ХХ века, Святослава Рихтера, хотя он и не нуждается в чьей-либо защите — он снискал славу величайшего из величайших музыкантов на всех континентах сам, без чьей-либо помощи. А интервью господина Гаврилова напоминает мне басню Крылова «Слон и Моська» — Слон остается самим собой, а Моська выглядит грязным, брехливым, жалким существом. Простите, но говорить о том, что Святослав Теофилович Рихтер, выросший в суперинтеллигентной семье, имел три класса образования? Это какой-то бред сумасшедшего! И мне хотелось бы, чтобы читатели «Известий» знали, что господин Гаврилов попросту выдает за правду свои амбициозные фантазии.
P.S. А еще мне хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на пятисотметровый бассейн на вилле господина Гаврилова — по моим сведениям, бассейны, где проводят Олимпийские игры, куда скромнее по объемам.
А вот и отзыв народного артиста России, профессора Московской консерватории Валентина Берлинского — одного из основателей Государственного квартета имени Бородина.
Возмутительное интервью Гаврилова, напечатанное в «Известиях» 2 февраля под заголовком «Я-то знаю настоящего Рихтера. Это был великий имиджмейкер», заставило меня взяться за перо.
Один из подзаголовков этого омерзительного интервью — «В России Рихтера идеализируют». Нет, господин Гаврилов, в России все любители и ценители истинной музыки Рихтера не идеализируют, а боготворят! Не хочу вдаваться в подробности этого бесстыдного документа, лишь скажу, что я, мои друзья-музыканты считали и считают великим счастьем то, что Богу было угодно, чтобы мы могли близко узнать этого музыканта, воспитавшего несколько поколений любителей истинного искусства, музицировать вместе с ним (квартет имени Бородина более сорока лет сотрудничал с великим пианистом, сыграв около двадцати различных сочинений). Гаврилов же, который позволил себе назвать себя «лучшим учеником Рихтера», совершил святотатство: грех великий плохо говорить, а тем более писать о своих родителях — своих учителях!
Гаврилов не любит Россию, русскую музыку, российских слушателей, и нечего ему к нам приезжать. А чего стоит утверждение Гаврилова о якобы трехклассном образовании Рихтера — ложь и цинизм! Рихтер был не только великим музыкантом — он был эрудированнейшим человеком, прекрасно знавшим литературу, живопись (сам профессионально занимался и устраивал дома собственные выставки), тонко разбирался в кино, и многое другое было в поле его внимания. Кроме искажения фактов, сам стиль высказываний Гаврилова — пренебрежительный и неуважительный к России и русским людям. Чего стоит, к примеру, фраза, сказанная в другом интервью («МК», 31 января): «Я не вижу в России ни одной более или менее привлекательной личности, обладающей по крайней мере красотой языка или логичностью мысли». И многое другое, от чего коробит.
Хочется оградить российских слушателей от общения с этим циником.
С уважением, Валентин Берлинский
P.S. Заголовок статьи Гаврилова в «МК» — «Не стреляйте в пианистов» — в данном случае я бы трактовал в утвердительном смысле.
В Москву на фестиваль «Черешневый лес» приехал Андрей Гаврилов — пианист с непростой судьбой, эпатажным поведением и экстремистскими взглядами на культуру. Победитель конкурса Чайковского 1974 года, в 70-е годы близкий друг Рихтера, в 80-е — агрессивная жертва советского режима, он после отъезда в 1985 году на Запад совершенно пропал из поля зрения российского слушателя. В последние годы появился вновь — уже в качестве антизападника, яростного борца с музыкальным глобализмом. На днях Гаврилов — после семнадцатилетнего перерыва — играл в Большом зале консерватории сольный концерт.
Можно с уверенностью сказать, что теперь ему первую премию конкурса Чайковского ни за что не дали бы. Надеюсь, вы понимаете, что для Гаврилова это комплимент. Меньше всего пианисту понравилось бы, если бы в его игре оценивали беглость пальцев и точность нот. Даже такие вещи, как «яркость образа» и «богатство красок», думаю, его тоже особенно не волнуют. Все это он когда-то умел даже лучше самых великих. Играл по очереди с Рихтером так, что тот потом — согласно легенде — в записи не мог отличить себя от своего младшего друга.
Уехав на Запад, он немедленно в подтверждение собственных достоинств стал эксклюзивным артистом фирмы EMI и партнером лучших оркестров и дирижеров мира. Но западный музыкальный конвейер, судя по всему, оказался еще более неприятной вещью, чем советский железный занавес. Из музыки Гаврилов все-таки не ушел, но придумал себе новые задачи — бросить вызов, расшатать изнутри крепкие устои мирового музыкального рынка, где все просчитано, раскручено и спланировано по минутам на несколько лет вперед. Нахамить, шокировать, вывести из равновесия. Организовать своего рода музыкальный «Бойцовский клуб». Сделать в музыкальном истеблишменте уголок актуального искусства.
Беда только в том, что по законам все того же рынка отрицательный герой — еще лучше, чем положительный. Постаревший Гаврилов, своим сценическим имиджем напоминающий Бориса Гребенщикова и дающий скандальные, сильно отдающие желтизной интервью, оказался ценнейшим героем масс-медиа.
В собственно музыкальном поведении Гаврилова этот вызов не так очевиден. Конечно, он жутко утрирует контрасты, переключает динамические оттенки, как плохой водитель — скорости коробки передач, он лупит мимо нот и оскорбляет слух учительниц музыки своим бесплотным («ненаполненным» — как принято говорить) piano. Конечно, он все делает для того, чтобы Шопен, Скрябин, Равель и Прокофьев были не похожи сами на себя (со Скрябиным, кстати, у него это получается хуже — Четвертая соната в его исполнении оказалась очень похожа на настоящую). Конечно, он угрожающе стучит ногой по педали, грозя в щепки рассыпать пол, сладострастно гримасничает над любимым мотивчиком и эксцентрично вскакивает, не дождавшись, пока отзвучит своя же собственная последняя нота. Но все это как-то не пугает и не шокирует.
Следя за игрой Гаврилова, я подумала, что пианистов можно поделить на три категории: те, кто занимается любовью с роялем, те, кто этим не занимается, и те, кто притворяется, что занимается. Гаврилова я бы отнесла к последней категории. Он все-таки не эксгибиционист, а лицедей.
Продолжение следует.