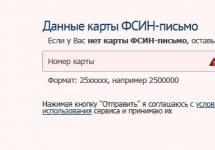Руми Джалаледдин (Джалал-ад-Дин ) - поэт, писавший на персидском языке, суфий - родился 30 сентября 1207 г. в афганском г. Балх (тогда он являлся частью иранской провинции Хорасан). Его отцом был известный человек, придворный ученый, богослов, проповедник-суфий, получивший известность под именем Баха ад-Дин Валад, которого вынудили покинуть родной город. С 1212 г. местом жительства семьи Руми были Нишапур, Багдад, Дамаск, Алеппо.
Руми проходил обучение в медресе, стал обладателем хорошего образования, причем не только в богословской, юридической сфере, но и приобрел немало познаний в сфере точных наук. После продолжительных скитаний семейство перебралось в турецкий город Конью, где отец стал служить при дворе турок-сельджуков. Здесь Руми проявил себя как поэт, написав диван лирических стихов, а впоследствии поэму, сделавшую его знаменитым, - «Месневи-и-Манави». Она явилась отражением теоретических положений суфизма, представители которого считали возможным приближение к Аллаху через чувство любви к нему, а также через озарение.
Поэма представляла собой поучительные рассказы, перемежающиеся лирическими вступлениями и нравоучениями, которые, по большому счету, представляют собой энциклопедию суфизма. Доступной для широкого круга читателей эта поэма была благодаря частому включению фольклорных притч. Поэма дошла до потомков благодаря тому, что ученик Руми Хасан Хусам сподвиг учителя превратить его устные сочинения в письменные. Поэма «Месневи» относится к одной из наиболее популярных и уважаемых мусульманских книг.
После смерти отца в 1231 г. Джалал ад-Дину досталась его должность. Обстоятельства личной биографии, внешние события (социальные потрясения, ощущение приближения нашествия монголов) до такой степени усилили суфийский настрой поэта, что осенью 1244 г. он примкнул к лагерю суфиев, стоящих на радикальных позициях и обвинявшихся в пантеизме. Результатом противостояния с клерикальным духовенством для Руми стала гибель его сына и наставника-суфия. После смерти поэта другой его сын основал дервишский орден «Мевлеви», члены которого считали своим идейным вдохновителем именно Руми.
Сам литератор последние годы жизни много проповедовал и писал. Творческое наследие нельзя назвать многообразным, но оно внесло весомый вклад в национальную литературу и в значительной степени повлияло на дальнейшее развитие литератур восточных стран. Скончался Руми в Конье 17 декабря 1273 г.
Биография из Википедии
Мавлана́ Джалал ад-Ди́н Мухамма́д Руми́ (перс. محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی; 30 сентября 1207, Балх, Государство Хорезмшахов - 17 декабря 1273, Конья, Конийский султанат), известный обычно как Руми или Мевляна - выдающийся персидский поэт-суфий. Иногда его называли также Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи (перс. محمد بلخى), по названию региона Балха, (современная часть Афганистана и Таджикистана), откуда он родом.
В XIII в. в г. Конья его сын Султан Валад основал суфийский орден Мевлеви, в обрядах которого используются произведения Руми. Руми - духовный предок дервишей этого самого влиятельного в Османской Турции и существующего и в наше время тариката.
Джалаладдин Руми родился в городке Вахш (совр. Таджикистан) на северных территориях Балха бывшем в то время крупным регионом провинции Хорасан, в семье популярного в народе придворного учёного богослова-юриста и проповедника-суфия - Мухаммада бен Хусейна аль-Хатиби аль-Балхи, известного как Баха ад-Дин Валад (1148-1231), вынужденного бежать под угрозой монгольского нападения из родного города и, после долгих скитаний, обосновавшегося в Малой Азии (Рум) при дворе турок-сельджуков в городе Конья. Джалал ад-Дин получил хорошее образование не только богословско-юридическое, но также и в области точных наук, прекрасно знал арабский и греческий языки, «Коран» и его толкования.

В 1231 году отец Джалал ад-Дина умер, и Джалал ад-Дин занял его место при дворе. Впечатления скитальческой жизни, социальных неурядиц Ирана, надвигающейся грозы монгольского нашествия углубили суфийские настроения Джалал ад-Дина и привели его в ноябре 1244 года после знакомства с Шамсуддином Тебризи в лагерь крайних суфиев, которых обвиняли в пантеизме, что вызвало столкновение с клерикальным духовенством и повлекло гибель сына Джалал ад-Дина и друга-учителя Шамса Тебризи. Руми (Мевляна) стал вдохновителем дервишского ордена «мевлеви», который уже после его смерти был основан его сыном. Последние годы Джалал ад-Дина были посвящены литературному творчеству и проповеднической деятельности.
Литературная деятельность Руми не многообразна, но очень значительна. Джалал ад-Дин был прежде всего поэтом. Его лирический «Диван», ещё детально не исследованный, содержит касыды, газели и четверостишия - рубаи. Поэт проводит в них идею ценности человека независимо от его земного величия; он протестует против мертвящего формализма религиозной обрядности и схоластики.
Эти идеи, выраженные пламенным языком в своеобразных формах, под покровом религиозного идеализма могли создавать и порой создавали определенно революционное настроение, способное сочетаться (и сочетавшееся) со стихийными выступлениями народных масс. Ряд лирических стихотворений говорит о практических удобствах суфизма, житейского и философского аскетизма.

Такое сочетание идеализма и практицизма характеризует и грандиозную эпико-дидактическую поэму (около 50000 стихов) Джалал ад-Дин - «Маснави» (Двустишия). Здесь в эпической форме поучительных рассказов, сопровождаемых нравоучениями или прерываемых лирическими отступлениями, проводятся те же идеи, но в более популярной форме. В целом эти рассказы составляют как бы энциклопедию суфизма.
Единства сюжета в «Масневи» нет; всё произведение, однако, проникнуто единым настроением; форма его - рифмующие двустишия, выдержанные в одинаковом ритме. В эпических частях Джалал ад-Дин выступает как художник-реалист, иногда как натуралист (его натурализм способен шокировать европейского читателя, но для Востока он обычен).
«Маснави» Джалал ад-Дин частично продиктовал любимому ученику и преемнику (в качестве главы суфиев) Хасану Хусам ад-Дину, который, вероятно, и побудил своего учителя к творчеству (вернее, к фиксированию устного произведения).

«Маснави» - одна из наиболее почитаемых и читаемых книг мусульманского мира. И в мировой литературе Джалаладдин может быть назван величайшим поэтом-пантеистом. Известны рукописи его пантеистического трактата «Фихи ма фихи» (В нём то, что в нём ) написанного в прозе.
Так как орден Мевлеви был самым влиятельным среди аристократов Османской Турции, то с осторожностью можно допустить, что в противоположность другому великому поэту XIII века Саади - идеологу городского торгового класса - Джалал ад-Дин был ближе к феодальной аристократии, чем к землевладельческому классу.
Жизнь Руми составляет один из переплетающихся сюжетов в романах Орхана Памука «Черная книга» (1990) и Элиф Шафак "40 правил любви".
Переводы на русский язык
Всему, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас,
Она бессмертна - а умрет лишь то, что видит глаз.
Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих:
Исчезли вовсе не они, а отраженье их.
А как же мы и наша суть? Едва лишь в мир придем,
По лестнице метаморфоз свершаем наш подъём.
Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом,
Потом животным - тайна тайн в чередованье том!
И вот теперь ты человек, ты знаньем наделен,
Твой облик глина приняла, - о, как непрочен он!
Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной,
И ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной.
О Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись -
И в малой капле повтори морей бескрайних жизнь.
Джалал ад-Дин Руми
Сборники:
- Руми // Ирано-таджикская поэзия. Библиотека всемирной литературы. Серия первая, том 21. - М.: Издательство «Художественная литература», 1974. - С.127-186
- Руми // Классическая восточная поэзия: Антология / Сост., предисл., введение, глоссарий, коммент. Х. Г. Короглы. - М.:Высш. шк., 1991. - С. 293-319
- Руми в русских переводах. - В кн.: Читтик У. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми. М., 1995
- Персидская классика поры расцвета. НФ Пушкинская библиотека: АСТ, Москва, 2005. 843 с. В составе сборника - Руми. Поэма о скрытом смысле. Перевод Наума Гребнева. Неполный текст.
- Истины: изречения персидских и таджикских народов, их поэтов и мудрецов. Перевод с фарси Наума Гребнева. Спб.: Азбука-классика, 2005. 256 с.
Отдельные издания:
- Руми, Джалаладдин . Поэма о скрытом смысле: Избранные притчи. Перевод Наума Гребнева. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука» 1986. 272 с.
- Руми . Газели. Притчи. Душанбе, 1988
- Руми Джалаладдин . Дорога превращений: суфийские притчи. пер. Д. В. Щедровицкого. М.: Оклик, 2009.
- Руми, Джалал ад-дин Мухаммад
. Маснави-йи Ма’нави («Поэма о скрытом смысле». В шести дафтарах. СПб: Петербургское Востоковедение. (прозаический перевод
)
- Первый дафтар (байты 1-4003). / Пер. с перс. О. Ф. Акимушкина, Ю. А. Иоаннесяна, Б. В. Норика, А. А. Хисматулина, О. М. Ястребовой. Общ. ред. А. А. Хисматулина. СПб, 2007. 448 с.
- Второй дафтар (байты 1-3810). / Пер. с перс. М.-Н. О. Османова. СПб, 2009.
- Третий дафтар (байты 1-4810). / Пер. перс. Л. Г. Лахути, Н. И. Пригариной, М. А. Русанова, Н. Ю. Чалисовой. СПб, 2010.
- Четвёртый дафтар (байты 1-3855). / Пер. с перс., примеч. и указ. О. М. Ястребовой. СПб, 2010.
- Пятый дафтар (бейты 1-4238) / Пер. с перс. О. М. Ястребовой, 2011.
- Шестой дафтар (бейты 1-4916) / Пер. с перс. А. А. Хисматулина, О. М. Ястребовой. Под ред. А. А. Хисматулина. СПб, 2012.
Руми (настоящее имя Джалаладдин Мухаммад) – литературный псевдоним величайшего таджикского поэта. Родился он на севере Афганистана, в городе Балхе, 30 сентября 1207 г. Его псевдоним происходит от названия места, где Джалаладдин провёл большую часть своей жизни – Рум.
Отец будущего поэта Бахааддин Валад, принадлежал к избранному кругу знатоков мусульманского богословия, Корана и преданий о пророке Мухаммаде. Он был хорошим оратором и проповедником. Вместе с тем Бахааддин не скрывал своих симпатий к суфизму - мусульманскому мистицизму и разделял идеи Ахмада ал-Газали и Наджмаддина Кубра.
Рассказывают, что, когда отец Джалаладдина, решившись навсегда оставить родной Балх, отправился со своими чадами и домочадцами на поклонение святым местам в Мекку и Медину, по пути он сделал остановку в старинном городе Нишапуре. Там он встретился со знаменитым персидским поэтом-суфием Фаридаддином Аттаром. Заканчивая беседу, поэт заметил, указав на его малолетнего сына: «Не за горами время, когда сын твой возожжет огонь в сердцах скорбящих о мире». И он подарил мальчику свою поэму «Книга тайн», с которой тот не расставался всю жизнь, постоянно перечитывал, находя в ней разъяснения мучившим его сомнениям, ответы на терзавшие душу вопросы.
Из-за ненависти со стороны влиятельного фаворита при дворе Хорезмшахов, семья поэта была вынуждена покинуть Балх. В сопровождении сорока учеников и последователей они навсегда покинула владения Хорезмшахов где то между 1214 и 1216 гг. А уже в 1217 г. все они находились в Руме, где обосновались в городе Малатья, в государстве румийских Сельджукидов. В это время Джалаладдину, шел одиннадцатый год.
После смерти отца, Джалаладдин занял его пост в медресе. Однако, он был ещё слишком молод (24 года), чтобы читать проповеди в соборной мечети по пятницам, обучать детей местной знати и богатых горожан основам богословия, религиозного права и толковать Коран. В Конье вокруг Джалаладдина собрались все наиболее влиятельные и известные ученики его покойного отца, а в 1232 г. из Термеза приезжает член мистического братства «Кубравийа», единомышленник Бахааддина Сейид Бурханаддин Мухаккик. Он целиком посвящает себя духовному воспитанию Джалаладдина, который был его учеником около девяти лет.
После этого Джалаладдин Мухаммад отправился в Сирию, где в Алеппо и Дамаске – центрах мусульманской учености и религиозного знания – он провел в общей сложности около семи лет. Последующие после возвращения в Конью пять лет (1240-1244) жизнь Джалаладдина текла ровно и спокойно. Всё изменила встреча с бродячим суфийским проповедником Шамсаддином Мухаммадом Табризи. Радость от общения с Шамсом раскрыла в будущем поэте дремавшие чувства и страсти, существование которых никто, включая и самого Джалаладдина и не предполагал. Он признал Шамса Табризи своим духовным наставником, стал его послушником и учеником: Шамс олицетворял для него целый мир.
Образ Шамсаддина Табризи, тогда уже немолодого, шестидесятилетнего человека, как бы соткан из тайн: он неожиданно возник и столь же внезапно исчез, чтобы больше не появиться. Мистик, близкий по своим воззрениям братству каландаров, он бродил по странам Ближнего Востока, проповедуя идеи суфизма. Он отрицал любые ритуальные и культовые предписания, призывал к духовной чистоте и считал необходимым непосредственное общение с народом. Суфий, он яростно критиковал рационализм теологии и схоластической философии, не признавал религиозных различий и звал к миру между людьми разных вероисповеданий, утверждая, что сущность любой религии заключается в вере в бога, а не в ритуальных ее отправлениях. Такова вкратце суть его изречений, вошедших в сборник «Речения»
Ещё до встречи с Шамсаддином Табризи Джалаладдин Руми пробовал свои силы в поэзии. Но именно дружба с Шамсом, а затем исчезновение друга, разбудили в нём дремавший гений. Руми тонко воспринимал окружающее, он слагал образные и красочные стихи, полные мистической символики, и вместе с тем, проникнутые искренним человеческим чувством. Большая часть этих стихотворений, вошедших в его подписана именем Шамс.
Неотъемлемой чертой таланта Джалаладдина была его музыкальная одаренность и необыкновенное чувство ритма. Особую склонность он проявлял к свирели, которой посвятил проникновенные строки в прологе к поэме. После исчезновения Шамса Джалаладдин все чаще устраивает общие собрания и совместные молитвы основанного и организованного, но никогда не возглавлявшегося им суфийского братства, где под музыку распевали его стихи, написанные специально для этого ритуала либо навеянные атмосферой последнего. Таких стихов очень много.
Впоследствии Джалаладдин ввел в этот ритуал танцы. Суфии понимали силу эмоционального воздействия музыки, ее влияние на настроения и чувства людей. Но Джалаладдин первым ввел музыку и танец в ритуал общих собраний дервишей Коньи и первым же применил ее в медресе.
После смерти любимого ученика, а вслед за ним и жены поэта, в его творчестве наступил почти двухлетний перерыв. Но, когда боль утраты немного утихла, поэт отдал своему сочинению 12 лет непрестанного труда. Джалаладдин Руми скончался в Конье 17 декабря 1273 г. и был похоронен рядом со своим отцом в мавзолее, возведенном еще при Алааддине Кайкубаде I.
Стихи Руми
|
Теперь ты понял тайну бытия: То что было то было, того не вернуть. Когда я заливался кровавыми слезами, |
Я, как Меркурий падок был до книг. пер. Р. Фиша. Цит. по книге «Из реки речений» Любая боль несет в себе и исцеленье. |
|

Я утверждаю, что из всех видов человеческого скотства самое глупое, самое подлое и самое вредное - верить, что после этой жизни нет другой. В самом деле, если мы перелистаем все сочинения как философов, так и других мудрых писателей, все сходятся на том, что в нас есть нечто постоянное.
Повторять чужие слова не значит еще понять их смысл.
Голые сучья, кажущиеся зимой спящими, тайно работают, готовясь к своей весне.
Науку познаешь с помощью слов, искусство - с помощью практики, а отчужденность познается в компании.
То, что обычному человеку кажется камнем, для знающего является жемчужиной.
Пока ты здоров и силен, трудись! Труд и стремление не противостоят счастью найти клад. Не отставай от дела, и если ты наделен судьбой, то она найдет тебя.
Жизнь в этом мире есть сон забвения, который отделяет человека от истинной действительности. Подобно тому человеку, который, увидев мгновенный сон, забывает родной город, где он жил годами, душа отдается иллюзии и сну этого мира и забывает свою истинную родину; не понимает, что этот разрушительный мир затмевает глаза, как облако закрывает звезды.
Основатель турецкого государства, отец Осамана и потомок Огузов Эртургрул , был защитником Мавлави Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи
Мевлана Джалал ад-дин Руми, родился в городе Балх (Афганистан). Это, ныне не очень заметное местечко на севере Афганистана, в те далекие времена было крупным и процветающим городом, находящимся на перекрестке караванных путей из Китая и Индии в Иран и Мавераннахр.
Хотя датой рождения Руми обычно называют 30 сентября 1207 года, недавние исследования показали, что родился он раньше на семь или восемь лет. Его род происходит от Абу Бакра, одного из близких товарищей пророка Мухаммада. Отец Руми Мухаммад ибн Хусейн ал-Хатиби ал-Балхи (1148-1231), более известный как Бахауддин Велед, принадлежал к весьма почитаемому в тогдашнем обществе избранному кругу знатоков мусульманского богословия, Корана и преданий о пророке Мухаммаде. Он был хорошим оратором и снискал себе славу проповедника. Вместе с тем Бахауддин не скрывал своего увлечения суфизмом и разделял идеи Ахмада ал-Газали, чьим духовным последователем он себя считал, а также взгляды своего современника Наджмуддина Кубра, главы ордена Кубрави.
Обширные теологические познания, ученость и мудрость создали ему репутацию религиозного наставника и учителя, публичные выступления которого собирали многочисленную аудиторию и содействовали росту его авторитета, недаром его наградили титулом "Султан ученых" (Sultan"ul Ulema). Бахауддин преподавал в медресе (высшая духовная школа мусульман) и его проповеди в окрестностях Балха пользовались огромной популярностью.
Разрыв отношений между Хорезмшахом и багдадским халифом, волна гонений против сторонников халифа побудили его под благовидным предлогом паломничества навсегда расстаться с родными местами.
Однако, его отъезд мог быть связан и с приближением войск Чингизхана. Монголы к тому времени достигли предместий Балха, и многие жители покидали свои дома, ища убежища в Иране и Ираке. Предположительно он вместе с семьей в сопровождении 40 учеников и последователей выехал из Балха между 1214 и 1216 годами, присоеденившись к каравану, направлявшемуся в Нишапур.
Встреча с Аттаром
В это время в Нишапуре жил великий суфийский учитель и поэт Фаридуддин Аттар, и, по преданиям, говорят, что Бахауддин останавливался у него на некоторое время. До наших дней дошло множество легенд о жизни Аттара. Он написал 140 работ и среди них "Мантик ут-Тайюр" ("Парламент птиц"). Аттар был впечатлен сообразительностью и знаниями Джалал ад-дина, благословил ребенка, передав ему суфийскую бараку, и подарил ему копию своей книги "Асрар-наме" ("Книга тайн"), написанную в стихах. Идрис Шах пишет: "Суфийская традиция считает, что поскольку современные ему суфийские учителя были убеждены в высоком духовном потенциале юнного Руми, их забота о его безопасности и развитии послужила причиной дальнейшего странствия беженцев. Они покидали Нишапур, провожаемые пророческими словами Аттара: "Этот мальчик зажжет для мира огонь божественного восторга".
Нишапуру не суждено было уцелеть. Аттар, подобно Наджмуддину, ждал своей участи мученика, которая постигла его вскоре после этого".
Но даже свою смерть Аттар превратил в поучительную историю. Он попал в плен в возрасте 110 лет и один из монголов, пожалев старика сказал: "Я выкуплю его за тысячу монет". Видя, что "хозяин" снедаем алчностью, Аттар сказал: "Это не та цена за которую меня стоит продавать." Позже кто-то предложил за старика охапку сена. "Вот моя цена!" - воскликнул Аттар, - "Потому что большего я и не стою". За это взбешенный монгол убил его.
Много позже Руми скажет: "Аттар обошел семь городов любви, а мы прошли лишь по одной улице".
Багдад
Из Нишапура Велед и его семья направились в Багдад, где некоторое время жили в медресе известного суфия Шейха Шихаб ад-дина Сухраварди, основателя суфийского ордена Сухравардийа. Среди слушателей его лекций был поэт Са"ди Ширази.
Затем Бахауддин продолжил свое путешествие, собираясь совершить паломничество в Мекку. Но когда его спрашивали откуда и куда он путешествует, Бахауддин отвечал: "Откуда и куда? Мы пришли от Бога, и к Богу возвратимся. Кто наделен силой отклонить нас от этого вечного, бесконечного пути? Мы приходим из сферы, не имеющей ни формы ни места, и в эту сферу мы возвращаемся"...
Политическая карта Малой Азии того периода была весьма пестрой. В центре ее сложился Румский султанат Сельджукидов (1077-1307) со столицей в г. Конья (древний Икониум). Это было наиболее мощное государственное образование в регионе, достигшее расцвета в правление Алааддина Кайкубада I (1219-1236) и Гийасаддина Кайхосрова I (1236-1245). Именно этот далекий султанат представлялся землей обетованной, где царят покой и достаток, тем многочисленным беженцам из Мавераннахра и Ирана, что устремились туда в надежеде обрести спасение от насилий степных орд, ведомых Чингисханом. В городах султаната нашли приют множество людей: ремесленники, ученые, деятели культуры. Но путешествие семьи Бахауддина Веледа пролегало по далеко не спокойным территориям.
Бахауддин Велед достиг Мекки в 1216 году. Джелал ад-дину в это время было всего 9 лет. Они совершили хадж и направились дальше.
Алеппо
После совершения хаджа Велед, и его семья продолжили свой путь дальше к Медине, Иерусалиму, Дамаску и наконец Алеппо. Считается, что в именно в Алеппо Бахауддин Велед сказал: "Бог направляет нас в Анатолию. Эта страна притягивает к себе наш караван..."
Вскоре после приезда в Рум семья Бахауддина переселилась из Малатьи в г. Сивас (в 1219 г.) затем в Акшехир, где они провели немногим более трех лет, после чего, видимо, в 1222г. переехали в г. Ларенда (ныне Караман), где оставались около семи лет. Правитель Карамана, Эмир Муса, наслышанный о мудрости ученого из Балха, встретил его со всеми почестями, и основал для него в медресе. В этом городе умерли мать Джалаладдина Мумине Хатун и его старший брат, здесь же Руми женился на Гаухер Хатун - дочери Шарафаддина Лала из Самарканда, и здесь же год спустя родился его первенец Султан-Велед. Впоследствии Султан-Велед напишет поэму "Велед-наме" ("Книга о Веледе"), стихотворную биографию Бахауддина Веледа и своего отца, и соберет изречения Джалал ад-дина Руми, назвав их "Фихи ма Фихи" ("Есть то, что есть").
Ровно и размеренно текла жизнь в Ларенде, как вдруг снова перемена мест: к Бахааддину прибыл личный посланец правителя Румского султаната Алааддина Кайкубада I с предложедием занять почетный и высокий пост руководителя одного из самых популярных медресе (высшего конфессионального училища) в Конье. Бахааддин недолго раздумывал: он принял это лестное приглашение. В 1228 г. он переехал в Конью.
Сам Султан Алааддин КайКубад I в окружении пышной свиты вельмож, шутов и личной охраны вышел за крепостные стены встречать знаменитого мудреца. Он двигался навстречу небольшой группе скромно одетых странников. Бахауддин Велед шел навстречу владыке, которому покорялись цари и тираны всех стран от Йемена до Грузии и Византии. Когда осталось три шага, он с поклоном остановился. Султан Алааддин был вынужден сделать еще два шага и склониться перед святым человеком, чтобы поцеловать ему руку. Но Велед вместо руки протянул для поцелуя набалдашник своего посоха. "Что за спесь?!" - мелькнула мысль в голове Султана Алааддина. Но делать было нечего, пришлось поцеловать набалдашник.
Когда Кейкубад I выпрямился, он услышал голос Бахауддина: "Напрасно, повелитель, в мыслях своих полагаешь ты меня спесивым! Смирение - дело нищенствующих улемов, но не к лицу оно султанам веры, кои держат в руках своих суть вещей!"
Эти слова поразили Алааддина КейКубада: гость угадал его мысли! И он, почтительно склонившись, предложил ему поселиться во дворце. Но Султан ученых дворцу предпочел медресе Алтун-Аба и раздал нищим дары, которые были ему пожалованы Алаадином.
Когда Алааддин КейКубад, гордясь только что построенной крепостью, показывал ее, ожидая похвал, Бахауддин Велед сказал ему:"Возведи крепость из добрых дел и не будет на свете ничего прочнее ее". Между тем, жизнь Султана улемов подходила к концу. Он чувствовал: Конья, которая пришласьему по душе, - его последняя радосгь, последняя стоянка в этом бренном мире. В течение следующих двух лет Бахауддин жил в Конье, преподавая сначала в медресе Алтун-Аба, а затем в медресе, построенном Эмиром Бедреддином Гевхертасом.
12 января 1231 Бахауддин Велед скончался. Джелал ад-дину в это время исполнилось 24 года.
Султан улемов дал блестящее образование своему сыну Он посвятил его в искусство составления фетв (религиозные стихи) и чтения проповедей. В двадцать четыре года Джалал ад-дин обладал всем, что необходимо проповеднику. После смерти отца Руми занял его пост в медресе и, таким образом, сразу же вошел в круг местных религиозных авторитетов. Однако, по представлениям того времени, он был слишком молод, чтобы читать проповеди в соборной мечети по пятницам, обучать детей местной знати и богатых горожан основам богословия, религиозного права и толковать Коран. И Джалал ад-дин решает отправиться в святые города Дамасск и Халеб для того, чтобы проверить себя и свои познания в беседах с мудрецами века.
В прославленном халебском медресе Халавийе толковал он с великим арабским ученым Камаладдином Ибн аль-Адимом о девяти небесах и сочетаниях четырех элементов - огня, воздуха, земли и воды, из коих слагается мир видимый. Вели они речь и о сущности времени, состоящего из отдельных мгновений, текущих друг за другом, подобно воде в реке, состоящей из сменяющих друг друга капель. В знаменитом на весь просвещенный мир дамасском медресе Макдисийе Джалал ад-дин вел речь с мужами веры о единстве, как абсолюте, исключающем представление о множественности; о единстве, в котором заключена идея множественности, подобно тому, как в семени дерева заложено единое дерево, но со всем множеством его частей - корней, ствола, ветвей, плодов.
Обсудив сложнейшие вопросы гносеологии и онтологии, логики и богословия с выдающимися учеными и богословами, Джалал ад-дин убедился: нет ничего, что было бы темным для его разума. Улемы и шейхи, дивясь ясности и глубине ума молодого богослова, вопреки традиции, через несколько месяцев выдали ему иджазе (свидетельство), подтверждая, что ничему больше его научить не могут.
Осенью 1231 года он возвращался в Конью вместе с двумя отцовскими мюридами (учениками). Джалал ад-дин ехал молча - не сердце, вопреки доводам разума, было неспокойно. Под вечер они остановились переночевать в вырубленных в скале пещерах. Здесь жили суфии-аскеты. Джалал ад-дин смиренно попросил их разделить с ним его трапезу. Аскеты с презрением глядели на богословов-законников, считая их лицемерами. Но просьбу уважили. Закончив трапезу, как и положено божьим людям, они не выразили никакой благодарности: истинным подателем благ был только Бог, его и следовало благодарить.
Утром, перед тем, как уехать, Джалал ад-дин вдруг решил задать вопрос. Он обратился к самому старому отшельнику:
- Могу я спросить тебя, о познавший? Скажи, отчего скорбит сердце?
- От многих душ исходит голос скорби, а от некоторых - звук бубна. Сколько я ни гляжу в свое сердце - в нем раздается голос скорби, а звука бубна все нет! - А разве происходит что-либо от усилий раба божьего?
- Нет! Не происходит. Но без усилии тоже не происходит! Если ты проведешь у чьих-либо дверей год, то в конце концов тебе скажут: "Войди за тем, для чего пришел!". Я буду тебе в том порукой, - ответил отшельник.
Джалал ад-дин поблагодарил суфия, и хотя слова того были безрадостны, но Джалал ад-дин услышал в них отзвук своих стремлений: голос бубна должен снова зазвучать в его сердце, как звучал некогда в детстве.
Конья
Город Конья, где, по арабской легенде, когда-то был погребен прах древнегреческого философа Платона, ко времени приезда Джалал ад-дина уже более ста лет служила столицей Румского султаната. В городе только что возвели новый, отличавшийся пышностью и великолепием дворец султана, отстроили новую цитадель. В 1220 г. Кайкубад завершил строительство соборной мечети, начатое еще его предшественником Кайкаусом I. Слава о благоустроенных и богатых медресе города привлекала туда студентов из Египта, Сирии и Ирака. Словом, культурная и религиозная жизнь в столице била ключом.
Джалал ад-дин вернулся в Конью и узнал, что в его отсутствие тихо, как и жила, угасла его жена Гаухер Хатун, подарившая ему двоих детей. Голос скорби зазвучал в его сердце с новой силой. Чтобы поддержать словом и делом сына своего учителя вокруг Джалал ад-дина собрались все наиболее влиятельные и известные ученики и последователи его покойного отца. Однако, не в силах оставаться больше в городе, он ушел в горы. В 1232 г. его нашел дервиш, принесший письмо о том, что из Термеза приезжает член мистического братства "Кубрави", ученик и единомышленник Бахауддина Веледа Сеид Бурханаддин Мухаккик.
После теплой встречи Сеид устроил своему ученику настоящий экзамен, самый строгий, какой доводилось держать Джалал ад-дину. Вопросы касались в большей мере астрологии и медицины. В ней мало кто смыслил больше Сеида, ибо учился он врачеванию у одного из учеников самого Ибн Сины. С каждым ответом светлело суровое лицо Сеида, наконец, он встал и поклонился молодому ученому.
- В науке веры и знания явного, - молвил Сеид, - ты превзошел отца своего. Но отец твой владел и наукой постижения сокровенного. Я удостоился этой науки от твоего отца, моего шейха, и теперь желаю повести тебя по пути, дабы и в знании сокровенного стал ты наследником, равным родителю своему.
Сеид препоясал Джалал ад-дина поясом повиновения. Руми тут же состригли бороду, выщипали брови, обрили голову и Сеид надел на него дервишскую шапку. С этого момента он был уже не улемом, не проповедником, а одним из многочисленных мюридов Сеида Бурханаддина Тайновидца. Обучение у шейха Сеида продолжалось девять лет (по другим источникам три года), по прошествие которых Тайновидец сказал: "Ты познал все науки - явные и сокровенные. Да славится Аллах на том и на этом свете за то, что я удостоился милости лицезреть своими очами твое совершенство. С именем Его ступай и неси людям новую жизнь, окуни их души в благодать".
Бурханаддин посвятил Джалал ад-дина в сокровенные тайны мистического пути, раскрыл перед ним сущность концепций суфизма, основанных на идее постижения скрытого от непосвященных "знания" через собственный психологический опыт. Последующие пять лет (1240-1244) жизнь Джалал ад-дина текла ровно, казалось, по раз и навсегда заведенному порядку. Он был обеспечен и устроен, имел дом и семью, читал лекции в медресе, солидные и добропорядочные проповеди в соборной мечети. Его часто можно было видеть на улицах Коньи, когда он степенно выступал или восседал на муле в почтительном окружении учеников и студентов, облаченный в традиционную одежду знатока мусульманского вероучения - широкую, просторную мантию, с внушительной чалмой на голове. Впоследствии он едко и зло высмеивал ту категорию тогдашнего общества, к которой когда-то принадлежал сам.
Сам же Джелал ад-дин оставался неудовлетворенным уровнем своих знаний и понимания. В нем проснулась страсть к мистицизму, пока еще скрытая от большинства его последователей. И эта страсть требовала выхода и надлежащих средств выражения, чтобы, вырвавшись на свободу, охватить всю вселенную.
И вот, 26 ноября 1244 года Руми встречается с Шамсом Тебризи.
Встреча с Шамсом Тебрези
Двадцать пятого дня месяца джумадалахира 642 года хиджры, или двадцать пятого ноября 1244 года, по дороге, ведущей в Конью из Кайсери, ехал одинокий путник. Мерно покачиваясь под шаг низкорослого серого осла, приметливым взглядом смотрел он на раскинувшуюся под нежарким осенним солнцем долину.
Сколько городов сельджукской державы он прошел, и все они лежали в развалинах. По обочинам безлюдных дорог валялись кости, разжиревшее воронье при виде одинокого путника не взлетало, а нехотя отступало на сиротливо опустелые, незасеянные поля. В воздухе парили ястребы и черные грифы.
Караван-сараи стояли без крыш. По ночам в горах долго и протяжно выли волки, словно вознося хвалу монгольским победам. В Эрзруме, где путник провел несколько лет, обучая грамоте детей, он не застал никого из знакомых.
Испуганные, бледные тени копошились среди развалин, да по вечерам из юрт, разбитых прямо на площадях, доносилось похожее на волчий вой пение охмелевших от кумыса монгольских воинов.
Вряд ли добрался бы он до этой долины, если бы не ахи, их напутствия и советы. От самого Тебриза ахи передавали его, как письмо, с рук на руки.
После полудня показались сперва минареты, а затем крепостные стены Коньи. Засверкали мрамором башни, украшенные львами и ангелами. Глубокий ров вокруг стен был наполнен водой, отражавшей голубизну неба. И цепные мосты через ров были опущены как ни в чем не бывало. Какая сила охранила город от пронесшегося над страной кровавого урагана?
В тени огромных вековых платанов путник остановил осла. Прежде чем войти в город, нужно было привести в порядок свою одежду и свои мысли. Он расстегнул притороченную к седлу суму, чтоб достать циновку, но тут приметил за платанами крестьянина, ведущего на поводу такого же, как у него, низкорослого осла, но с двумя глубокими корзинами по бокам. Обогнав их взглядом, путник увидел на бахче, сразу за платанами высокую груду полосатых арбузов и повернул к ней осла.
Подъехав поближе, путник спросил, нельзя ли купить арбуз.
Вместо ответа крестьянин бросился к куче, выбрал два длинных, как огромные кабачки, плода, взвесил их на ладони, похлопал по бокам и, удовлетворенный осмотром, поднес их путнику. Но от платы отказался. Брать деньги за арбуз с чужестранца - а он сразу признал, что путник едет издалека, - не приличествовало добропорядочному мусульманину.
Путник, поблагодарив, привязал осла к платану, расстелил в тени циновку, вынул из сумы ячменные лепешки, флягу и взял в руки кривой йеменский нож.
- Нагрелись! Охладить бы надо. Колодец - вот он, рядом! - услышал он за спиной. Крестьянин, нагружая арбузы на осла, исподволь следил за каждым его движением. - Только как опустить их - ведро перевернется! - продолжал тот, точно размышляя вслух.
- Просто! - ответил путник. Вытащил из сумы длинную бечеву и быстро оплел ею арбузы, как сетью. Поднял их за свободный конец, точно две громадные ягоды, и передал крестьянину. - Ловко! - не удержался тот от похвалы.
Путник промолчал. Пока арбузы охлаждались в колодце, он сел, прислонился к стволу платана и прикрыл глаза - видать, умаялся в дороге. Трудно было сказать, сколько ему лет - то ли сорок, то ли все пятьдесят. Лицо темное, редкая бороденка. Бухарской работы цветной халат свободно облегал поджарое тело. На ногах сапожки из сыромятной кожи, на голове круглая шапка, обмотанная короткой чалмой. Судя по одежде, торговец средней руки. Но взгляд не купеческий. Не оценивающий, не озабоченный, не масленый, а какой-то сверлящий, жалящий. К тому же, когда вынимал он бечеву, успел крестьянин. приметить в суме блестящий металлический набалдашник вроде тех, что надевают на посох шейхи, да тканую шапку ладьей со священными письменами. Как угадаешь, разного звания людишки шатаются нынче по дорогам.
А путник сидел, прикрыв глаза. В его памяти без всякого порядка мелькали лица. Бородатые, хитрые, тупые, жестокие, открытые. Улицы городов, развалины дворцов, дома, дороги - притомился, наверное. Но он не напрягал свою волю, хоть очень важно было ему собраться с мыслями: знал, что из беспорядочного мелькания само собой выплывет нужное слово, нужный образ. Не раз убеждался он: душа - что боевой скакун. Если хорошо обучен - вывезет, а понукания мешают.
Перед его взором возникли улицы Тебриза. Не теперешнего, придавленного ханом Хулагу, устроившего в нем свою ставку, а веселого, буйного, исступленного Тебриза его детства. Он увидел отца - простого вязальщика корзин, умершего вместе с матерью в страшный холерный год.
Вместе с отцом сидит он, семилетний, над озером. На нем не шальвары, а энтари - длинная, до пят, рубаха, чтоб не бередить свежую рану. Позавчера свершили над ним обряд обрезания. Он перенес его, даже не пикнув, и теперь сидит рядом с отцом, гордый, чувствуя себя мужчиной, ровней ему. По озеру плавают утята, ныряют на мелководье, трещат клювами, процеживают тину, а вдоль берега мечется высидевшая их курица. Кудахчет, кричит, хлопает крыльями, зовет-надрывается...
Вот и явилось видение, которого он ждал. Весь свой век до седых волос чувствовал себя путник утенком, высиженным курицей. Далеко на берегу, в отчаянии хлопая крыльями, остались и отец, даровавший ему жизнь, и шейх Абу Бекр, открывший ему путь к познанию.
Наставник Абу Бекр тоже вязал корзины, тем и кормился. Но был не простым мастером - старейшиной ремесленного братства ахи. Много благодати даровал ему шейх Абу Бекр. Все, что ведал сам, все, что досталось по традиции: устои нравственности, представления о мире и справедливости, о благе и истине. Научил ремеслу своему, так удивившему здешнего простофилю-крестьянина.
Но было в нем нечто такое, чего Абу Бекр не видел, не понимал. Да только ли он? Никто до сего дня не понимал скрытого в нем огня, не разделял до конца его мыслей, словно был он обречен от века на участь гадкого утенка среди куриц.
А ведь он затем и бросил своего шейха Абу Бекра, чтобы найти наставника, друга, который бы понял его. Поэтому покинул свой цех, родной Тебриз. Сколько дорог исходил, с какими только учеными людьми не встречался и шейхами не беседовал! И ни один не обладал ответами на его вопросы, ни один не мог понять его бунтарский дух, вытерпеть непримиримость суждений. Даже великий мудрец Ибн аль-Араби, у которого много знаний приобрел путник, и тот был ограничен. Своей наукой, своими знаниями - не мог от них отказаться. Но если наука из средства превращается в цель то и она становится завесой перед Истиной. Когда он сказал об этом Ибн аль-Араби, тот только голову склонил:
- Безжалостен хлыст твоих слов, сынок! В Багдаде беседовал путник с достославным шейхом Эвхадеддином Кирмани. Спросил его:
- Что творишь?
- Созерцаю месяц в тазу с водой!
Не в новинку был путнику темный язык арифов. Шейх подразумевал: созерцаю абсолютную, совершенную красоту истины в каждой капле воды, в любом гарнце земли. Отраженную красоту...
- Если не вскочил у тебя на шее чирей, подними голову!- молвил путник.- Погляди на небо, отчего ты не видишь месяца там?
Если не понял его Ибн аль-Араби, не снес речей его Кирмани, то чего было ждать от других?! Наверное, где-то на свете есть тот, кто мог бы понять его, стать зеркалом его души. Может быть, даже в этом городе, стены которого стоят, как стояли до монголов. Немыслимо, чтоб мир был пуст. Доколе ему быть странником в этом мире, утенком, уплывшим от высидевшей его курицы и не нашедшим себе подобных? Иначе навсегда останется тайной для мира истина, проклевывающаяся в его сердце...
- Раздели со мной хлеб, добрый человек! - молвил путник, указывая на ячменные лепешки и флягу с вином.
Крестьянин не заставил себя упрашивать. Сел рядом с циновкой. Бережно взял кусок разломленной лепешки. Подождал, пока путник откусит от своей. И застенчиво, но истово принялся жевать.
Путник срезал с арбуза верхушку, словно тюбетею.
Перевернул арбуз, одним взмахом ножа срезал другую верхушку. Точными ударами рассек арбуз вдоль и развалил его на циновке толстыми кроваво-красными ломтями.
Они трапезничали молча. Решив, что приличия соблюдены, крестьянин спросил:
- Вижу, господин издалека. Что слышно в мире?- Не осталось в мире больше терпения, и похмелье превысило меру, - ответил путник. - Разве что у вас иначе! - Он обвел рукой долину.
- И у нас два года подряд был голод, - молвил крестьянин, не подымая на собеседника глаз, как того требовала вежливость. - В нашей деревне Кямил всего двенадцать душ осталось - остальные перемерли. На сей год лучше, бог милостив.
- Бог милостив, да людишки слепы!
Крестьянин уверовал, что его собеседник - переодетый суфий. И в тон ему подхватил:
- Слепы, но не все. В Конье не счесть шейхов и подвижников, что видят бога!
Впервые ухмылка мелькнула на лице путника. Шейхи! Повидал он их на своем пути, что песка в пустыне. Вопят, точно зазывалы на базаре: "Ступайте ко мне, остригите волосы, соскоблите бороду, примите из рук моих хырку святости!" Пекутся лишь о собственной славе и святости! Подвижники! Дела им нет до целого света. Только о себе, о своей чистоте заботятся. Возгордились своей праведностью. И нет ничего страшней бесчеловечной нетерпимости праведников!
- Шейхи да суфии - разбойники с большой дороги веры! - отрезал путник. - Хлебни-ка лучше вина из фляги!
Крестьянин застыл с улыбкой на лице. Помял кулаком нос. Такие слова о шейхах! Хорош дервиш! И еще вина предлагает... Может, он воин ахи? Те и вино пьют, и суфиев не терпят.
- Не знаю. Только наш Саляхаддин, золотых дел мастер - праведный шейх. Лучше его человека не видал. Если б не он, умер бы и я от голода. Мы с ним из одной деревни...
- И сын Султана Улемов Мевляна Джалал ад-дин - тоже знающий истину шейх, - помолчав, добавил крестьянин.
Сердце прыгнуло в груди путника. Чтоб не выдать себя, он покрутил флягу в руке, поднял ее над головой. - Тебе их лучше знать! А мы перевернули вверх ногами ларец с бубенцами. И стало нам за сторожа веселье. И все одно: что кровь, что сок арбузный, что вино!
Он запрокинул голову.
Глядя, как путник привычными глотками, словно воду, пьет запретный напиток, крестьянин вдруг решил: не купец он, не суфий, не ахи. Перед ним - уцелевший, спасшийся от резни мюрид самого Баба Исхака.
Перед приходом монголов, лет пять назад, поднял Баба Исхак, человек праведной жизни, крестьянское сословие против нечестивого султана, отцеубийцы Гияседдина. Назвал себя расуллулахом-посланником Аллаха.
Догадка, осенившая крестьянина, придала ему невиданную смелость. Щеки его зарделись, даже пятно на щеке побагровело. Он протянул руку к фляге:
- Кто нам друг, тот пайщик в добыче! - то был клич восставших людей Баба Исхака, с которым они забирали города. Глядя, как скривился крестьянин после одного глотка - с непривычки, видать, слишком крепким показалось ему пальмовое вино, - путник ответил:
- Для зрелого мужа добыча - лишь сердце его. И нет в той добыче пайщиков - она безраздельно отдана другу.
Он встал, давая понять, что разговор закончен. Собрал циновку. Подойдя к колодцу, почистил одежду. Сполоснул руки. Омыл лицо. И, расспросив крестьянина о городских караван-сараях, двинулся к воротам Халкабегуш, навстречу своей судьбе.
Он давно уже не останавливался ни в дервишских обителях - ханаках, ни в медресе. В обителях нужно было подчиняться порядкам, установленным шейхом, участвовать в маджлисах. Он не желал стеснять своей свободы и к тому же не принадлежал ни к одному из суфийских толков. Он был не из них.
В медресе ему по праву хозяев могли задавать вопросы или втянуть в богословский спор. Он не желал, да и не умел отвечать в любое время на любой вопрос, как записные улемы. А если бы стал говорить своим языком то, что думал, его, чего доброго, зачислили бы в еретики. Опыт у него был. Он успел обойти многие мусульманские города, нигде не задерживаясь подолгу. Не зря прозвали его Летающим.
К тому же в ханаках и медресе его могли узнать, а он вовсе этого не желал. Ему нужна была свобода - от известности и славы, от обрядов и уставов, от пустых разговоров и отвлеченных бесед. Он был странником, а странникам подходят караван-сараи.
Он не торопился. За долгие годы странствий вошло у него в привычку, прежде чем начинать какое-либо дело, проводить один день сидя на улице, а второй - бродя по базару. Приметливому взгляду бывалого странника за эти два дня открывалось главное - чем и как живет город. И без особых усилий случай всегда посылал ему нужные встречи. Сквозь толпу по улице пробирались ослики с вязанками дров, корзинами, бурдюками с ключевой водой. Кричали водоносы, продавцы шербетов, мелочные торговцы. Словом, жизнь текла как везде и повсюду, и можно было бы подумать, что не было и в помине ни монголов, ни голода, если бы в толкотне этой не чувствовалось подавленности, какой-то приниженности. Голоса торговцев звучали громко, но не весело, саррафы потирали руки скорей по привычке, чем от удовольствия после хорошей сделки. И на лицах прохожих, стоило им остаться наедине со своими мыслями, часто ловил o путник скорбь и задумчивость.
Но вот по толпе прошло волнение. Словно ветер пронесся над тростником - все головы повернулись в одну сторону. Не монгольский ли нойон, не султан, не вельможа ли скачет, подумалось было путнику, но тут до его слуха долетело имя:
- Едет Мевляна Джалал ад-дин! - это имя он услышал впервые лет десять назад в Дамаске. Потом все чаще долетало оно до него. то в Халебе, то в Эрзруме, то в Кайсери, то в Тебризе, пока не позвало в путь.
Он встал с циновки и двинулся к середине, мостовой, Верхом на высоком муле-иноходце к перекрестку приближался улем, окруженный мюридами и учениками, сопровождавшими его пешком по обе стороны, слева и справа, точно пешие воины знатного всадника. Окладистая, лопатой, темная борода лежала на груди. На правое плечо свисал конец чалмы. Руки, державшие повод, упрятаны в широкие рукава хырки. Лицо смуглое. Глаза опущены, точно не замечает устремленных на него взглядов, не слышит почтительного, но громкого шепота, которым произносят его имя. То ли в самом деле погружен в себя, то ли тяготится людским вниманием. Растолкав локтями толпу, путник выскочил вперед.
Вскинулся к морде иноходца - от резкого движения рукава халата соскользнули до локтя, обнажив жилистые, точно сплетенные из вервия, руки, - и схватил мула под уздцы. ***
В ту памятную субботу Джалал ад-дин был снова приглашен на диспут в медресе "Пембе Фурушан", построенное на пожертвования цеха торговцев хлопком.
Темой диспута были два хадиса. Пророк Мухаммад сказал: "Первое, что сотворил Аллах, - белая жемчужина". И сказал еще: "Первое, что сотворил Аллах, - разум".
Спор разгорелся о том, однозначно ли выражение "белая жемчужина" перворазуму, именуемому по-арабски "аль-акл аль-аввал". И являются ли абсолютность, универсальность и потенциальность тремя сторонами, с которых можно рассматривать перворазум, или же они его эманации.
Диспут длился вторую неделю. И давно наводил на Джалал ад-дина, как, впрочем, почти все подобные диспуты, глухую тоску. Казалось, ученые мужи собрались не для того, чтобы понять друг друга, выслушать и вникнуть в смысл речей, а, напротив, ждали лишь оплошности или оговорки противника, чтобы поймать его на слове и показать собственную ученость. Стоило какому-нибудь улему прервать свою речь, чтобы перевести дыхание, как тут же находился другой, только и ждавший, как бы оглушить ворохом изречений и хадисов. Не самоотверженный поиск Истины, а ристалище самолюбий, где каждый упивался своей начитанностью, логикой и умом.
Это претило Джалал ад-дину. Но диспут был назначен настоятелем медресе Сейфеддином, некогда яростным противником Джалал ад-дина, а ныне признавшим его наконец, и отказаться от приглашения значило бы проявить мстительность и высокомерие.
Едучи по улице, Джалал ад-дин снова ощутил стыд, который часто посещал его в последние годы. Время ли обсуждать, что такое белая жемчужина и равна ли она перворазуму, когда тысячи людей смотрели на мужей веры и учености с упованием, ожидая от них силы и разума, чтобы укрепить души перед лицом жизни. На что он тратил время, так скупо отпущенное каждому человеку?
Никогда еще стыд, охвативший его, не был так едок, как в тот осенний солнечный день, когда он ехал из медресе Торговцев хлопком, окруженный своими учениками. И потому, чем ближе он подъезжал к людному перекрестку, тем ниже склонялась на грудь его голова.
Мул внезапно остановился, Джалал ад-дин поднял глаза. Увидел обнаженные до локтя жилистые руки, схватившие под уздцы его иноходца, редкую бороду и сверлящий, точно шило, взгляд одетого купцом странника.
Двадцать шестое ноября 1244 года. Обычный осенний день. Не сошлись в битве в тот день великие армии, чтобы решить судьбу империй. Не взошел на престол основатель династии, которая повелевала миллионами. Не был открыт ни новый континент, ни новый вид энергии. Ничего, что поразило бы воображение и сразу заставило бы людей запомнить эту дату, не случилось в тот неимоверно далекий теперь день. Просто встретились два человека.
Но чем дальше отступает во тьму веков тот день, тем необычней кажутся последствия этой встречи.
Встреча двух людей, которые открыли себя друг в друге, поняли, полюбили, - всегда чудо, может быть, самое удивительное из всех чудес. Но день их встречи остается обычно великой датой лишь в личной судьбе этих людей.
Два человека, встретившиеся в Конье семьсот с лишним лет назад, не только открыли себя друг в друге, они совершили еще одно великое открытие - Человека для Человечества. Не будь этой встречи, по-иному чувствовали, думали бы десятки миллионов людей - от Средней Азии на севере до Аравии на юге, от Индонезии на востоке до Северной Африки на западе.
Для второй природы человека, именуемой "культура", этот день имел такое же значение, как день встречи Сократа и Платона, Шиллера и Гёте.
В тот день родился для мира один из величайших поэтов земли - Джалал ад-дин Руми, воплотивший в своей поэзии верования, чувства и предания народов огромного региона и выразивший в ней с небывалой силой величие человеческого духа в его бесконечном стремлении к совершенству.
Много великих дат и славных имен забылось с тех пор. Время разрушило камни, развалило крепостные стены. Мы даже не знаем теперь, где стояло медресе Торговцев хлопком, в котором провел утро того дня Джалал ад-дин, где помещался караван-сарай Рисоторговцев, в котором провел предыдущую ночь его будущий друг. Но место, где встретились Джалал ад-дин Руми и Шемседдин Тебризи, сохранилось в людской памяти.
Если вам придется побывать в Конье, разыщите здание отеля "Сельджук-палас" неподалеку от центра. Встаньте у его угла, напротив дома министерства просвещения: Мардж аль-Бахрайн-так назвали люди это место. "Встреча двух морей". Двадцать шестого ноября 1244 года.
Без зеркала, будь то отполированный металл или водная гладь, не может человек увидеть своего лица. Без другого человека не может он познать себя, ибо как родовое существо человек осуществляет себя и осознает лишь через других людей.
Но человек не зеркало. Он и отражатель, и излучатель. И субъект, и объект одновременно. И потому отношения двух людей, а в особенности таких, как Джалал ад-дин и его новый друг, есть сложнейший психологический процесс самопознания.
Но как странны, а порой незначительны бывают слова, по которым мы узнаем в другом человеке самого себя, свое собственное продолжение в мире, или, выражаясь старомодным языком, родственную душу?!
Эти слова часто служат лишь знаком, неприметной для стороннего взгляда меткой. "Слово, - говорил Джалал ад-дин Руми, - одежда. Смысл - скрывающаяся под ней тайна".
Двадцать шестого ноября 1244 года они сразу же заговорили о главном. Но слова, в которые был облечен вопрос, столь же важный для них, как и для нас, за семь столетий успели настолько обветшать, что не удерживают более смысла. Чтобы постичь скрывающуюся за ними тайну, нужно как-то представить себе ту структуру мышления, которая была ими обозначена.
Все так же крепко держа под уздцы мула и не спуская глаз с Джалал ад-дина, путник спросил:
- Эй, меняла мыслей и смыслов того и этого мира! Скажи, кто выше - пророк Мухаммад или Баязид Бистами? Баязид Бистами, живший в IX веке подвижник, был одним из столпов суфизма. Он первым обнаружил, что углубление в размышления о единстве божества может вызвать чувство полного уничтожения собственной личности, подобное растворению "я" влюбленного в "я" возлюбленной. Он говорил: "Я сбросил самого себя, как змея сбрасывает свою кожу. Я заглянул в свою суть, и... о, я стал Им!" Такое состояние Баязид назвал "фана" - уничтожение, небытие, которое впоследствии большинство суфийских школ признало целью путника, проходящего тарикат. Правоверное духовенство усмотрело в словах Баязида претензию на божественность, объявило его гяуром - неверным, изгнало из родного города. Для суфиев, однако, Баязид Бистами стал высочайшим авторитетом и удостоился титула "Султан аль-арифин", то есть Султан Познавших.
Тем не менее вопрос, заданный незнакомцем, да еще посреди людной улицы, был кощунственной дерзостью. Одно дело - суфийский шейх, пусть даже такой, как Султан Познавших, и совсем другое - сам посланник Аллаха Мухаммад. И Джалал ад-дин ответил, как на его месте ответил бы любой правоверный шейх или улем:
- Что за вопрос? Конечно, Мухаммад выше!
Шемседдин, без сомнения, ждал такого ответа. Но в нем-то и заключалась ловушка. Тонкая улыбка заиграла на его губах.
- Ладно, - сказал он. - Но почему тогда Мухаммад говорит: "Сердце мое покрывается ржавчиной, и по семидесяти раз в день я каюсь перед господом моим!" А Баязид утверждает: "Я очистился от всех несовершенных качеств своих, и в теле моем нет ничего кроме бога. Преславен я, преславен я, о, сколь велик мой сан!" Джалал ад-дин выпрямился как от удара. Незнакомец, выходит, не только дерзок, но и весьма не прост. Быть может, он бился над тем же, над чем бьется мысль его, Джалал ад-дина: абсолютность Истины и относительность познания ее.
Прежде чем ответить, Джалал ад-дин, уже не скрывая волнения, долгим взглядом посмотрел в глаза незнакомцу. Его волнение передалось путнику. Впоследствии Шемседдин вспоминал: "Он сразу постиг совершенство и полноту моих слов, и не успел я договорить, как почувствовал, что опьянел от чистоты его сердца".
- Мухаммад каждый день одолевал семьдесят стоянок, - ответил Джалал ад-дин. - И каждый раз, достигнув новой ступени, каялся в несовершенстве познания, достигнутого на предыдущей. А Баязид вышел из себя от величия достигнутой им одной-единственной стоянки и в исступлении произнес эти слова...
Кто выше, Мухаммад или Баязид?.. Если не понимать скрывающегося за этими словами смысла, вопрос кажется не менее бессодержательным, чем спор христианских богословов о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы, или диспут о белой жемчужине и перворазуме, в котором в тот день участвовал Джалал ад-дин. Но, по сути, Шемседдин спрашивал о другом: состоятельны ли претензии на постижение абсолютной истины, или же всякое познание относительно и каждая новая ступень есть отрицание предыдущей? Таков был смысл его вопроса, если перевести его на язык современности. Вопроса, на который до встречи с Джалал ад-дином ни от кого не получал он вразумительного ответа.
Услышав ответ, Шемседдин испустил вопль и без чувств упал на землю. По крайней мере так описывают со слов очевидцев эту сцену старинные хроники.
В наш век гипертрофированного рассудка цивилизация приучила нас к сдержанности в выражении чувств. Форма, однако, неотделима от содержания. Мы неизмеримо больше знаем, вероятно, мыслим в массе логичнее, стройнее, но чувствуем ли мы с той же силой, что и люди тринадцатого века? "Всякая потеря есть приобретение, - говорил Джалал ад-дин Руми. - Всякое приобретение есть потеря..."
Он соскочил на землю, склонился над путником. Растер ему запястья, несколько раз развел и сложил ему руки на груди. Шемседдин пришел в себя. Встал. Они обнялись. Ничего не понимая, с изумлением глядели на эту сцену толпа, ученые улемы, мюриды Джалал ад-дина.
Он взял путника под руку и пешком направился вместе с ним к дому золотых дел мастера Саляхаддина. Здесь они уединились для беседы.
Три месяца без перерыва продолжалась беседа Джалал ад-дина Руми и Шемседдина Тебризи. Когда минули эти месяцы и над Коньей подули первые весенние ветры, всем, кто знал Джалал ад-дина, показалось, что он умер, а в его облике родился другой человек.
"Нежданно явился Шемседдин, - вспоминал впоследствии сын поэта Велед, - и соединился с ним. И в сиянии его света исчезла тень Мевляны... Когда узрел он лицо Шемса, открылись ему тайны, стали ясными как день. Он увидел никем не виданное, услыхал никем не слыханное. И стало для него все едино: что высокое, что низкое. Призвал он Шемса к себе и сказал: "Послушай, мой падишах, своего дервиша. Мой дом недостоин тебя, но я полюбил тебя верной любовью. Все, что есть у раба, что достанут его руки, принадлежит его господину. Отныне это твой дом!" ...Мевляна был очарован его обликом, его не поддающейся определениям чистотой, его речью, полной тайн, как море жемчужин, его словом, вдыхающим жизнь в свободного человека... Никуда не являлся он без него. Если не видел его лица. лишался света очей своих. Не расставался с ним ни днем, ни ночью. Невыносима сделалась ему разлука с ним. Точно стал он рыбой, живущей в его море. Шемседдин позвал его в такой мир, какой и во сне не снился ни тюрку, ни арабу. Что ни день, читал он ему поучения и сделал явным новое знание. Мевляна и без того был исполнен сокровенного знания. Но то, что открыл ему Шемс, было иным, совсем новым знанием..."
Никому не ведомо, о чем говорили они в своем уединении. Как видно из его слов, не ведал этого и сын поэта. Но в течение года с лишним по приказанию Джалал ад-дина все рассказы и изречения, каждое слово Шемседдина, сказанное публично, записывалось "писарями тайн". Эти записи затем составили книгу "Макалат" ("Беседы"), которая в списках дошла и до наших дней. Книга эта осталась в черновиках; в списках много разночтений. Да и слова и образы, которые употребляет Шемседдин, весьма туманны, аллегоричны. Он сам сознавал это. "Ни повторить, ни следовать моим словам не в силах подражатель - говорил он. - Они темны и сложны. Могу их повторять сто раз, и каждый раз в них обнаружится иной смысл. Меж тем главный смысл остается девственно-непорочным, никем не понятым". (Москва, 1987 г., издательство "Наука", Радий Фиш "Джалаледдин Руми".).
Шамседдин раскрыл таившиеся в Джалал ад-дине неведомые дотоле ему самому силы, придавленные тройным гнетом - авторитетом отца, книжной ученостью и суфийским самосовершенствованием под началом Сеида Тайновидца. Эти силы оказались настолько могучими, что не иссякли, а, напротив, обрели взрывную мощь. Шамседдин первым увидел эти силы и "приоткрыл крышку". И тогда на весь мир зазвучал голос бубна в сердце Джалал ад-дина. Слезы и стенания сменялись гимнами радости быть на Земле человеком, гордостью за человека, верой в его величие и всемогущество. Здравым смыслом простолюдина Шамседдин понял, как многим ученым мужам книги заслонили окно в мир! Живую жизнь облекли они в саван мертвых догм. И поэтому, увидев его с книгой отцовских поучений, кричал он, как одержимый: "Не читай! Не читай!"
Шамседдин упорно отвращал его взор от созерцания месяца, отраженного в тазу, указывая на месяц в небе.
Руми и Шамс стали неразлучны. Их Дружба сама стала одной из исторических загадок мистического суфизма. Её невозможно объяснить с позиции здравого смысла: Руми было 37 лет, Шамсу за 50. Дуэт из двух слившихся нот, влюблённый ученик и возлюбленный учитель, существование и несуществование, свет и его источник, присутствие и отсутствие - все нормальные социальные разграничения исчезли.
Руми мог провести вдвоём с Шамсом несколько месяцев подряд в мистическом дуэте (сохбет), не видя других людей, игнорируя обязанности отца, мужа, учителя, главы школы, придворного Султана, отдаваясь совместному духовному общению и медитации. Старший сын Руми - Султан Валед писал, что Шамс в своём духовном развитии прошел все возможные человеку стадии экстатической влюблённости в Бога и стал "котб-е хама ма шуган" - или «Посохом Возлюбленного».
Шамс презирал начётчиков и формальных знатоков Корана и, сознательно избегая их общества, жил в караван-сараях, с бездомными дервишами. Он быстро стал заметным доминирующим явлением в и без того интенсивной и конкурентной духовной жизни Коньи. Многие студенты других духовных наставников перебежали к Шамсу. Любимые ученики Руми - его сын, Султан Валед, и личный писец, Хусам Челеби, тоже стали студентами Шамса. Эта экстатическая дружба вызвала трения в религиозной общине Коньи. Другие теологи и студенты Руми почувствовали себя заброшенными, семья Руми взбунтовалась, младший сын Руми - Алаэддин - стал угрожать Шамсу смертью. И Шамс исчез. По мнению исследователей творчества Руми, именно после этого первого исчезновения Шамса и началось превращение Руми в поэта-мистика.
Аннемария Шиммел, посвятившая жизнь изучению Руми, пишет: "Он стал поэтом, начал подолгу слушать музыку, петь, мог часами кружиться в танце."
Прошел слух, что Шамс появился в Дамаске, Руми послал в Дамаск сына, Султана Валеда, чтобы уговорить Друга вернуться в Конью. Шамс согласился. Когда они встретились, то оба упали в ноги друг другу, так, что "никто не мог понять, кто из них влюбленный, а кто любимый." Шамс стал жить в доме Руми и скрепил дружбу женитьбой на его приёмной дочери. Вновь начались их совместные "сохбеты" (мистические беседы) и вновь зависть подняла свою голову.
Вечером 5 декабря 1248 года, во время беседы Руми и Шамса, кто-то вызвал Шамса на улицу, он вышел и больше его никогда не видели. Вероятно, он был убит при соучастии Алаэддина, если это так, то Шамс действительно заплатил головой за эту мистическую дружбу.
После второго исчезновения Шамса Руми погрузился в мистерию поисков Друга. Он пустился на поиски сам, объездил много городов и соседних стран, посетил, в частности, Дамаск. И именно в Дамаске он понял:
Зачем повсюду я искал Его?
Ведь я есть тело Друга моего,
Через меня Он посещает мир,
Себя везде искал я самого!
Так, союз друзей стал совершенным. Он достиг стадии фана - растворения в Друге. Руми назвал гигантское собрание своих газелей "Диваном Шамса Тебризи" ("Диван" - Сборник Трудов, на фарси).
Джалал ад-дин отказался от всего. Фетвы и диспуты были заброшены. Теперь молитвы и проповеди сменились стихами и музыкой, притеснения плоти - песнями и плясками. Джалал ад-дин в любой момент, даже самый неподходящий, мог неожиданно для себя начать танцевать и декламировать стихи, которые струились из него.
Однажды, проходя по базару, он услышал тонкий мелодичный перезвон. То били молоточки золотых дел мастеров. От этого ритмичного малинового перезвона родилась тихая радость, она ширилась и росла, пока не захватила его всего без остатка. Он остановился, прислушиваясь. Рука потянулась к подолу, другая взлетела вверх. Он сделал шаг, склонил голову к правому плечу и медленно, а потом все быстрее и быстрее, закружился в пляске посреди пыльной многолюдной улицы, а из уст его полились стихи:
Эй, листок, расскажи, где ты силу нашел,
как ты ветку прорвал,
из тюрьмы своей вышел на свет?!
Расскажи, расскажи, чтоб мы тоже могли
из тюрьмы своей выйти на свет!
Эй, кипарис, ты растешь из земли,
но как гордо ты вскинулся ввысь!
Кто тебя научил, кто тебе показал?
Научи ты и нас, как ты тянешься ввысь!
Золотых дел мастер Саляхаддин был другом поэта. Когда он увидел кружившегося в пляске Джалал ад-дина, он понял, что именно звон их молоточков, доносившийся из мастерской, привел поэта в экстаз.
- Бейте! Бейте сильнее! - приказал мастер Саляхаддин. Ноги сами подняли старого мастера и понесли на улицу: "Бейте! Не останавливайтесь! Бейте!" Они закружились вместе, в одном ритме, с одним и тем же самозабвением, с чувством полного слияния с миром. Стихи рождались сами собой:
Эй, бутон, весь окрасившись в кровь, вышел ты из себя!
Расскажи нам, бутон, что такое любовь?
Из себя выходить научи!
Саляхаддин был стар. Не в силах продолжать пляску, он вскоре остановился с поклоном и попросил прощения у поэта за свою немощь. Тот обнял его за плечи, поцеловал, и продолжал плясать один, читая:
Забил родник неистощимых кладов.
Из мастерской, где золото куют.
Как смысл велик, как ясен лик!
Как сердце счастливо, как радо!
В тот же вечер Саляхаддин, подарив свою мастерскую общине, ушел вместе с поэтом, чтобы больше не расставаться с ним до самой своей смерти. Десять лет поэт был неразлучен с Саляхаддином. Он увековечил его имя более, чем в семидесяти газелях. Старый мастер вышел из народа. Он был воплощением его здравого смысла и чуткости к Истине.
Однажды, собрав своих друзей и последователей, Джалал ад-дин сказал:
- Быть шейхом не по мне. Отныне и впредь слушайтесь Саляхаддина, следуйте за ним.
Защищенный народной любовью, Джалал ад-дин мог теперь даже в лицо султанам говорить то, что думал. Когда к нему в медресе пожаловал в сопровождении свиты султан Иззеддин Кей Кавус 2-ой, поэт усадил гостей и, как ни в чем не бывало, продолжал беседовать с друзьями.
Просидев какое-то время среди плотников, цирюльников, кожевенных дел мастеров, султан почувствовал себя униженным и произнес:
- Да соблаговолит его святейшество осчастливить нас наставлением своим!
- Какое я могу дать тебе наставление? - ответил поэт.- Тебе положено быть пастырем, а ты обратился в волка. Тебе доверено охранять, а ты обратился к грабежу. Бог сделал тебя султаном, а ты поступаешь по наущению дьявола!
Султан вел борьбу со своим братом. Отповедь поэта означала, что город, братство ахов, ремесленники были против него. И действительно, вскоре участь Иззеддина была решена. На трон сел его брат.
Слово Джалал ад-дина стало деянием. Он говорил: "Я превращаю глину в жемчуга и бубны музыкантов наполняю златом. Всех жаждущих пою вином, иссохшие поля нектаром орошаю. Всю землю превращаю в рай, на трон султанский страждущих сажаю и воздвигаю помосты из тысяч виселиц".
Он сложил тысячи стихов. Его слово проникало до самых далеких окраин мира. И со всех концов - из Бухары и Тебриза, Каира и Йемена, Дамасска и Кордовы - потянулись к нему люди, как к светочу, озарившему кромешную ночь монгольского ига и дикости крестоносцев.
Он стал народным поэтом и поэтом всего человечества. Его стихи переведены почти на все языки мира. Дело его жизни было завершено. Тело, почти семьдесят лет не знавшее отдыха, уже плохо слушалось его. Несколько дней Джалалидцин Руми уже не вставал. В среду утром горожане проснулись от глухого раскатистого гула. Дома заходили ходуном. Люди в панике выбежали во дворы, на улицы. Днем последовало еще два подземных толчка. Кое-где обвалились дувалы, в кварталах бедноты погибли люди.
Вечером шесть старейшин ахи пришли проведать больного; люди мастеровые, практичные явились не без тайной мысли. Давно уверовали они, что поэту ведомо все происходящее на небе, на земле и под землей, и хотели узнать, чего ожидать от землетрясения, на что надеяться и как быть.
Джалал ад-дин понял их, поблагодарив за пожелания здоровья, и сказал, медленно переводя дыхание:
- Трясения земли не страшитесь! Несчастная земля наша требует жирного куска. - Он улыбнулся и приложил ладони к своей впалой груди. - Надо предать его земле. И она успокоится...
В тот день, когда умру, вы не заламывайте руки.
Не плачьте, не твердите о разлуке!
То не разлуки, а свиданья день.
Светило закатилось, но взойдет.
Зерно упало в землю - прорастет!
На рассвете город огласился воплями глашатаев: "Сал-я-я!.. Сал-я-я! Сал-я-я!"
Во многих домах, караван сараях, обителях и медресе Коньи не спали той ночью, ожидая сигнала к последнему прощанию. И когда этот сигнал прозвучал, тысячные толпы высыпали на улицы города. Женщины, дети, братья ахи, старейшины, подмастерья, байская челядь, дворцовые слуги, купцы, крестьяне окрестных деревень, босоногие, с непокрытыми головами - каждый хотел подставить плечо под носилки, накрытые той самой лиловой ферадже, по которой в городе за сорок с лишним лет привыкли узнавать Джалал ад-дина Руми. По обычаю, перед процессией гнали восемь волов, чтобы принести их в жертву над могилой, а мясо раздать беднякам.
Когда процессия вышла на главную улицу, толпа стиснула ее со всех сторон. Тюрки и хорасанцы, греки и армяне, православные христиане и иудеи - все пришли попрощаться с поэтом, каждый по своему обычаю.
Султан Перване стоял на пригорке у дворцовых ворот. Стража, обнажив сабли, принялась избивать и разгонять людей. Все смешалось: молитвы и рыдания, крики боли, музыка и яростные вопли. То была первая попытка отделить поэта от народа. И неизвестно, чем бы все кончилось, если б погребальные носилки не выпали из рук на землю. При виде расколовшихся досок и белого савана толпа в благоговейном ужасе оцепенела.
Султан Перване сурово наблюдал за происходящим. К нему подбежал один придворный и, склонившись в три погибели,проговорил:
- О всемилостливый властитель, падишах эмиров! Столпы веры спрашивают тебя: "Что надобно христианам и иудеям среди правоверных, хоронящих своего шейха? Повели им убраться прочь, дабы мы могли отдать последние почести рабу Аллаха Джалал ад-дину".
- Ты прав, факих! - кивнул ему Перване. И, повелев призвать к нему иудейских и христианских священнослужителей, приказал им увести прочь своих единоверцев.
- О повелитель милостивых! - ответил настоятель православного собора отец Стефаний. - Как солнце освещает своим светом весь мир, так и Руми освятил светом Истины все человечество. Солнце же принадлежит всем. Разве не сам он сказал: "От меня узнают о тайне семьдесят два народа". Если бы мы и приказали верующим уйти, они нас все равно бы не послушали.
- Он как хлеб, - подхватил глава иудеев раввин Хайаффа. - А хлеб нужен всем!
Перване осталось только развести руками. Погребальные носилки подняли на плечи. Снова зазвучали стихи, молитвы, музыка. И снова под напором толпы остановилась процессия. Опять пошли в ход дубинки и сабли. И опять упали на землю носилки. Четырежды избивали людей стражники. И четырежды падали носилки, и ремесленных дел мастера, верная опора поэта, чинили его последний экипаж.
Рядом с надгробиями Султана улемов и золотых дел мастера Саляхаддина вырос еще один холмик. Отсюда, с холма, хорошо виден город с его минаретами и зелеными куполами мечетей. Зеленоватый купол Куббе-и-Хазра воздвигнут над могилой Джалал ад-дина Руми два с половиной века спустя.
В просторном внутреннем дворике неустанно журчит вода. И неиссякаемым потоком с утра до вечера идут люди, до 16 тысяч человек вдень. Семь столетий прошло, а люди все идут и идут!

Мавзолей Руми

Могила Руми
Значение понятий смерти и могилы для Мевляны
"В день смерти, когда мой гроб будут нести по направлению к могиле, не думай что мне тяжело расставаться с этим миром. Отгони от себя эти подозрения...
Не плачь по мне. Не жалей меня. Жалко будет тогда, когда я попаду в сети дьявола.
Не говори о разлуке. Потому, что день смерти для меня это день встречи и свидания.
После того, как меня опустят в могилу не говори мне "прощай". Ибо могила есть занавес рая.
Ты видел закат. Посмотри же и на восход. Солнцу и луне не страшен закат и восход. Зачем тогда сомневаться в Человеке.
Какое ведро вернулось из колодца пустым? Здесь ты должен молчать чтобы мог говорить там. Иначе твои слова останутся всего лишь в пустом пространстве космоса."
Жизнеописание Джалал ад-дина Руми
Джалал ад-дин Мохаммад (Jalal-e-Din Mohammad), позже получивший известность как Мевлана Джалал ад-дин Руми, родился в городе Балх (Афганистан). Это, ныне не очень заметное местечко на севере Афганистана, в те далекие времена было крупным и процветающим городом, находящимся на перекрестке караванных путей из Китая и Индии в Иран и Мавераннахр.
Хотя датой рождения Руми обычно называют 30 сентября 1207 года, недавние исследования показали, что родился он раньше на семь или восемь лет. Его род происходит от Абу Бакра, одного из близких товарищей пророка Мухаммада. Отец Руми Мухаммад ибн Хусейн ал-Хатиби ал-Балхи (1148-1231), более известный как Бахауддин Велед, принадлежал к весьма почитаемому в тогдашнем обществе избранному кругу знатоков мусульманского богословия, Корана и преданий о пророке Мухаммаде. Он был хорошим оратором и снискал себе славу проповедника. Вместе с тем Бахауддин не скрывал своего увлечения суфизмом и разделял идеи Ахмада ал-Газали, чьим духовным последователем он себя считал, а также взгляды своего современника Наджмуддина Кубра, главы ордена Кубрави.
Обширные теологические познания, ученость и мудрость создали ему репутацию религиозного наставника и учителя, публичные выступления которого собирали многочисленную аудиторию и содействовали росту его авторитета, недаром его наградили титулом "Султан ученых" (Sultan"ul Ulema). Бахауддин преподавал в медресе (высшая духовная школа мусульман) и его проповеди в окрестностях Балха пользовались огромной популярностью. Впоследствии он объединил свои идеи в книге, названной "ал-Ма"ариф" ("Познания").Этот сборник, включавший в себя как традиционные толкования Корана, так и идеи суфизма о единобытии, не мог не оказать влияния на становление взглядов Джелал ад-дина. Судя по немногим указаниям, встречающимся в "ал-Ма"ариф", между Бахауддином Веледом и придворным богословом-схоластом Фахраддином Рази возникли разногласия, в конце концов приведшие ко взаимной нетерпимости и вражде. Враждебность влиятельного при дворе религиозного деятеля таила в себе немалую опасность: известна была зловещая роль, которую Фахраддин Рази сыграл в трагической судьбе мистика Мадждаддина Багдади, утопленного по приказу Хорезмшаха в Аму-дарье в 1209 г. по обвинению в вероотступничестве и ереси. Неудивительно, что у Бахауддина возникла мысль покинуть родину. Разрыв отношений между Хорезмшахом и багдадским халифом, волна гонений против сторонников халифа еще более укрепили Бахауддина в задуманном и побудили его под благовидным предлогом паломничества навсегда расстаться с родными местами.
Однако, его отъезд мог быть связан и с приближением войск Чингизхана. Монголы к тому времени достигли предместий Балха, и многие жители покидали свои дома, ища убежища в Иране и Ираке. Во время битвы на поле боя погиб Наджмуддин Кубр. Точная дата отъезда Бахауддина Веледа неизвестна. Предположительно он вместе с семьей в сопровождении 40 учеников и последователей выехал из Балха между 1214 и 1216 годами, присоеденившись к каравану, направлявшемуся в Нишапур.
Встреча с Аттаром
В это время в Нишапуре жил великий суфийский учитель и поэт Фаридуддин Аттар (Ferideddin Attar), и, по преданиям, говорят, что Бахауддин останавливался у него на некоторое время. До наших дней дошло множество легенд о жизни Аттара. Он написал 140 работ и среди них "Мантик ут-Тайюр" ("Парламент птиц"). Аттар был впечатлен сообразительностью и знаниями Джалал ад-дина, благословил ребенка, передав ему суфийскую бараку, и подарил ему копию своей книги "Асрар-наме" ("Книга тайн"), написанную в стихах. Идрис Шах пишет: "Суфийская традиция считает, что поскольку современные ему суфийские учителя были убеждены в высоком духовном потенциале юнного Руми, их забота о его безопасности и развитии послужила причиной дальнейшего странствия беженцев. Они покидали Нишапур, провожаемые пророческими словами Аттара: "Этот мальчик зажжет для мира огонь божественного восторга".
Нишапуру не суждено было уцелеть. Аттар, подобно Наджмуддину, ждал своей участи мученика, которая постигла его вскоре после этого".
Но даже свою смерть Аттар превратил в поучительную историю. Он попал в плен в возрасте 110 лет и один из монголов, пожалев старика сказал: "Я выкуплю его за тысячу монет". Видя, что "хозяин" снедаем алчностью, Аттар сказал: "Это не та цена за которую меня стоит продавать." Позже кто-то предложил за старика охапку сена. "Вот моя цена!" - воскликнул Аттар, - "Потому что большего я и не стою". За это взбешенный монгол убил его.
Много позже Руми скажет: "Аттар обошел семь городов любви, а мы прошли лишь по одной улице".
Из Нишапура Велед и его семья направились в Багдад, где некоторое время жили в медресе известного суфия Шейха Шихаб ад-дина Сухраварди (Sehabeddin Suhreverdi), основателя суфийского ордена Сухравардийа. Среди слушателей его лекций был поэт Са"ди Ширази.
Затем Бахауддин продолжил свое путешествие, собираясь совершить паломничество в Мекку. Но когда его спрашивали откуда и куда он путешествует, Бахауддин отвечал: "Откуда и куда? Мы пришли от Бога, и к Богу возвратимся. Кто наделен силой отклонить нас от этого вечного, бесконечного пути? Мы приходим из сферы, не имеющей ни формы ни места, и в эту сферу мы возвращаемся"...
Политическая карта Малой Азии того периода была весьма пестрой. В центре ее сложился Румский султанат Сельджукидов (1077-1307) со столицей в г. Конья (древний Икониум). Это было наиболее мощное государственное образование в регионе, достигшее расцвета в правление Алааддина Кайкубада I (1219-1236) и Гийасаддина Кайхосрова I (1236-1245). Именно этот далекий султанат представлялся землей обетованной, где царят покой и достаток, тем многочисленным беженцам из Мавераннахра и Ирана, что устремились туда в надежеде обрести спасение от насилий степных орд, ведомых Чингисханом. В городах султаната нашли приют множество людей: ремесленники, ученые, деятели культуры. Но путешествие семьи Бахауддина Веледа пролегало по далеко не спокойным территориям.
Паломничество
Коран устанавливает пять основополагающих принципов ислама. К ним относятся: исповедание исламской веры, молитва, раздача милостыни, соблюдение поста и, наконец, хадж в Мекку, к мечети Харам и главной святыне - Каабе. Каждый мусульманин, если он физически крепок и достаточно богат, должен совершить паломничество хотя бы раз в жизни. Сам город Мекка построен корейшитами в V веке, но Кааба был центром арабского паломничества с очень древних времен. В древности храм представлял собою четыре стены ("КА"БА" значит по-арабски "четырехугольник"), высотою в рост человека, около 80 м. в периметре, из грубого камня, не скрепленного известью.
В наружную стену восточного угла был вделан Эсвад ("Черный камень"), главная святыня Каабы. Его происхождение не известно. Геологи утверждают, что это метеорит. Мусульмане верят, что он упал с небес в Эдемский сад и был дарован Адаму для очищения от грехов после его изгнания из Рая. Затем камень был передан Архангелом Джабраилом (Гавриилом) библейскому патриарху Аврааму, чтобы тот заложил его в основание храма. Мусульмане убеждены, что Кааба и есть тот храм. Со второй половины III века до р.х. Кааба становится пантеоном арабских племен: внутри было помещено до 360 национальных идолов, среди которых находились также изображения Авраама и Девы Марии с младенцем Иисусом. Благодаря святости Каабы, Мекка считается неприкосновенным городом. Пророк Мухаммад, войдя в Мекку в 630 г., выбросил из Каабы идолов, но почтительно приложился посохом к Эсваду и сохранил все обряды хаджа. С того времени Кааба стала святыней для всего мусульманского мира.
Паломники, прибывшие в Мекку, учавствуют в освященной веками церемонии хаджа. Перед церемонией они облачаются в одинаковые белые одежды, что символизирует равенство перед лицом Аллаха.
Паломничество начинается с первого дня пребывания в Мекке, когда пилигримы семь раз обходят вокруг Каабы (см.рисунок) и целуют его. Затем они должны семь раз пробежать от одного небольшого холма до другого, от Аль-Сафы до Аль-Марвы. Именно у этих холмов умирала от жажды Агарь с Исмаилом, пока Бог не направил их к месту, где из песка бил источник Земзем (в нескольких метрах от Каабы). Следущие два этапа - это восьмикиллометровый пеший поход в Мину, где паломники ночуют и на следующий день - 16 километровое путешествие к равнине Арафат, где Мухаммад в последний раз читал проповедь. Здесь паломники посвящают дневные часы молитве, а вечером отправляются собирать 49 камней для ритуала "побивания бесов камнями", в котором они примут участие в Мине на обратном пути. Последний этап хаджа паломники снова проводят в Мекке, где приносятся в жертву животные. Затем паломники обривают головы и еще раз обходят вокруг Каабы. На этом хадж заканчивается.
Бахауддин Велед достиг Мекки в 1216 году. Джелал ад-дину в это время было всего 9 лет. Они совершили хадж и направились дальше.
После совершения хаджа Велед, и его семья продолжили свой путь дальше к Медине, Иерусалиму, Дамаску и наконец Алеппо. Считается, что в именно в Алеппо Бахауддин Велед сказал: "Бог направляет нас в Анатолию. Эта страна притягивает к себе наш караван..."
Вскоре после приезда в Рум семья Бахауддина переселилась из Малатьи в г. Сивас (в 1219 г.) затем в Акшехир, где они провели немногим более трех лет, после чего, видимо, в 1222г. переехали в г. Ларенда (ныне Караман), где оставались около семи лет. Правитель Карамана, Эмир Муса, наслышанный о мудрости ученого из Балха, встретил его со всеми почестями, и основал для него в медресе. В этом городе умерли мать Джалаладдина Мумине Хатун и его старший брат, здесь же Руми женился на Гаухер Хатун - дочери Шарафаддина Лала из Самарканда, и здесь же год спустя родился его первенец Султан-Велед. Впоследствии Султан-Велед напишет поэму "Велед-наме" ("Книга о Веледе"), стихотворную биографию Бахауддина Веледа и своего отца, и соберет изречения Джалал ад-дина Руми, назвав их "Фихи ма Фихи" ("Есть то,что есть").
Ровно и размеренно текла жизнь в Ларенде, как вдруг снова перемена мест: к Бахааддину прибыл личный посланец правителя Румского султаната Алааддина Кайкубада I с предложедием занять почетный и высокий пост руководителя одного из самых популярных медресе (высшего конфессионального училища) в Конье. Бахааддин недолго раздумывал: он принял это лестное приглашение. В 1228 г. он переехал в Конью. Сам Султан Алааддин КайКубад I в окружении пышной свиты вельмож, шутов и личной охраны вышел за крепостные стены встречать знаменитого мудреца. Он двигался навстречу небольшой группе скромно одетых странников. Бахауддин Велед шел навстречу владыке, которому покорялись цари и тираны всех стран от Йемена до Грузии и Византии. Когда осталось три шага, он с поклоном остановился. Султан Алааддин был вынужден сделать еще два шага и склониться перед святым человеком, чтобы поцеловать ему руку. Но Велед вместо руки протянул для поцелуя набалдашник своего посоха. "Что за спесь?!" - мелькнула мысль в голове Султана Алааддина. Но делать было нечего, пришлось поцеловать набалдашник.
Когда Кейкубад I выпрямился, он услышал голос Бахауддина: "Напрасно, повелитель, в мыслях своих полагаешь ты меня спесивым! Смирение - дело нищенствующих улемов, но не к лицу оно султанам веры, кои держат в руках своих суть вещей!"
Эти слова поразили Алааддина КейКубада: гость угадал его мысли! И он, почтительно склонившись, предложил ему поселиться во дворце. Но Султан ученых дворцу предпочел медресе Алтун-Аба и раздал нищим дары, которые были ему пожалованы Алаадином.
Когда Алааддин КейКубад, гордясь только что построенной крепостью, показывал ее, ожидая похвал, Бахауддин Велед сказал ему:"Возведи крепость из добрых дел и не будет на свете ничего прочнее ее". Между тем, жизнь Султана улемов подходила к концу. Он чувствовал: Конья, которая пришласьему по душе, - его последняя радосгь, последняя стоянка в этом бренном мире. В течение следующих двух лет Бахауддин жил в Конье, преподавая сначала в медресе Алтун-Аба, а затем в медресе, построенном Эмиром Бедреддином Гевхертасом. 12 января 1231 Бахауддин Велед скончался. Джелал ад-дину в это время исполнилось 24 года.
Султан улемов дал блестящее образование своему сыну Он посвятил его в искусство составления фетв (религиозные стихи) и чтения проповедей. В двадцать четыре года Джалал ад-дин обладал всем, что необходимо проповеднику. После смерти отца Руми занял его пост в медресе и, таким образом, сразу же вошел в круг местных религиозных авторитетов. Однако, по представлениям того времени, он был слишком молод, чтобы читать проповеди в соборной мечети по пятницам, обучать детей местной знати и богатых горожан основам богословия, религиозного права и толковать Коран. И Джалал ад-дин решает отправиться в святые города Дамасск и Халеб для того, чтобы проверить себя и свои познания в беседах с мудрецами века.
В прославленном халебском медресе Халавийе толковал он с великим арабским ученым Камаладдином Ибн аль-Адимом о девяти небесах и сочетаниях четырех элементов - огня, воздуха, земли и воды, из коих слагается мир видимый. Вели они речь и о сущности времени, состоящего из отдельных мгновений, текущих друг за другом, подобно воде в реке, состоящей из сменяющих друг друга капель. В знаменитом на весь просвещенный мир дамасском медресе Макдисийе Джалал ад-дин вел речь с мужами веры о единстве, как абсолюте, исключающем представление о множественности; о единстве, в котором заключена идея множественности, подобно тому, как в семени дерева заложено единое дерево, но со всем множеством его частей - корней, ствола, ветвей, плодов.
Обсудив сложнейшие вопросы гносеологии и онтологии, логики и богословия с выдающимися учеными и богословами, Джалал ад-дин убедился: нет ничего, что было бы темным для его разума. Улемы и шейхи, дивясь ясности и глубине ума молодого богослова, вопреки традиции, через несколько месяцев выдали ему иджазе (свидетельство), подтверждая, что ничему больше его научить не могут.
Осенью 1231 года он возвращался в Конью вместе с двумя отцовскими мюридами (учениками). Джалал ад-дин ехал молча - не сердце, вопреки доводам разума, было неспокойно. Под вечер они остановились переночевать в вырубленных в скале нешерах. Здесь жили суфии-аскеты. Джалал ад-дин смиренно попросил их разделить с ним его трапезу. Аскеты с презрением глядели на богословов-законников, считая их лицемерами. Но просьбу уважили. Закончив трапезу, как и положено божьим людям, они не выразили никакой благодарности: истинным подателем благ был только Бог, его и следовало благодарить.
Утром, перед тем, как уехать, Джалал ад-дин вдруг решил задать вопрос. Он обратился к самому старому отшельнику:
- Могу я спросить тебя, о познавший? Скажи, отчего скорбит сердце?
- От многих душ исходит голос скорби, а от некоторых - звук бубна. Сколько я ни гляжу в свое сердце - в нем раздается голос скорби, а звука бубна все нет! - А разве происходит что-либо от усилий раба божьего?
- Нет! Не происходит. Но без усилии тоже не происходит! Если ты проведешь у чьих-либо дверей год, то к конце концов тебе скажут: "Войди за тем, для чего пришел!". Я буду тебе в том порукой, - ответил отшельник.
Джалал ад-дин поблагодарил суфия, и хотя слова того были безрадостны, но Джалал ад-дин услышал в них отзвук своих стремлений: голос бубна должен снова зазвучать в его сердце, как звучал некогда в детстве.
Город Конья, где, по арабской легенде, когда-то был погребен прах древнегреческого философа Платона, ко времени приезда Джалал ад-дина уже более ста лет служила столицей Румского султаната. В городе только что возвели новый, отличавшийся пышностью и великолепием дворец султана, отстроили новую цитадель. В 1220 г. Кайкубад завершил строительство соборной мечети, начатое еще его предшественником Кайкаусом I. Слава о благоустроенных и богатых медресе города привлекала туда студентов из Египта, Сирии и Ирака. Словом, культурная и религиозная жизнь в столице била ключом.
Джалал ад-дин вернулся в Конью и узнал, что в его отсутствие тихо, как и жила, угасла его жена Гаухер Хатун, подарившая ему двоих детей. Голос скорби зазвучал в его сердце с новой силой. Чтобы поддержать словом и делом сына своего учителя вокруг Джалал ад-дина собрались все наиболее влиятельные и известные ученики и последователи его покойного отца. Однако, не в силах оставаться больше в городе, он ушел в горы. В 1232 г. его нашел дервиш, принесший письмо о том, что из Термеза приезжает член мистического братства "Кубрави", ученик и единомышленник Бахауддина Веледа Сеид Бурханаддин Мухаккик.
Сеид Бурханаддин писал: "Заслышав в Термезе о смерти учителя своего Султана улемов, я оплакал его, сотворив молитву за упокой его души, и через сорок дней, постясь и бодрствуя по ночам, совершил поминальный обряд". Далее Сеид писал, что сын Бахауддина, его ученик и воспитанник остался теперь один, и он, Сеид, должен заменить ему отца. Но пока он добрался до Коньи, прошел целый год. И вот теперь Сеид ждет своего воспитанника, сына своего шейха в столице, уединившись в мечети Синджари. (См. историю произошедшую с Сеидом Бурханаддином Тайновидцем, во время обучения Руми).
После теплой встречи Сеид устроил своему ученику настоящий экзамен, самый строгий, какой доводилось держать Джалал ад-дину. Вопросы касались в большей мере астрологии и медицины. В ней мало кто смыслил больше Сеида, ибо учился он врачеванию у одного из учеников самого Ибн Сины. С каждым ответом светлело суровое лицо Тайновидца. Наконец, он встал и поклонился молодому ученому.
- В науке веры и знания явного, - молвил Сеид, - ты превзошел отца своего. Но отец твой владел и наукой постижения сокровенного. Я удостоился этой науки от твоего отца, моего шейха, и теперь желаю повести тебя по пути, дабы и в знании сокровенного стал ты наследником, равным родителю своему.
Сеид препоясал Джалал ад-дина поясом повиновения. Руми тут же состригли бороду, выщипали брови, обрили голову и Сеид надел на него дервишскую шапку. С этого момента он был уже не улемом, не проповедником, а одним из многочисленных мюридов Сеида Бурханаддина Тайновидца. Обучение у шейха Сеида продолжалось девять лет (по другим источникам три года), по прошествие которых Тайновидец сказал: "Ты познал все науки - явные и сокровенные. Да славится Аллах на том и на этом свете за то, что я удостоился милости лицезреть своими очами твое совершенство. С именем Его ступай и неси людям новую жизнь, окуни их души в благодать".
Бурханаддин посвятил Джалал ад-дина в сокровенные тайны мистического пути, раскрыл перед ним сущность концепций суфизма, основанных на идее постижения скрытого от непосвященных "знания" через собственный психологический опыт. Последующие пять лет (1240-1244) жизнь Джалал ад-дина текла ровно, казалось, по раз и навсегда заведенному порядку. Он был обеспечен и устроен, имел дом и семью, читал лекции в медресе, солидные и добропорядочные проповеди в соборной мечети. Его часто можно было видеть на улицах Коньи, когда он степенно выступал или восседал на муле в почтительном окружении учеников и студентов, облаченный в традиционную одежду знатока мусульманского вероучения - широкую, просторную мантию, с внушительной чалмой на голове. Впоследствии он едко и зло высмеивал ту категорию тогдашнего общества, к которой когда-то принадлежал сам.
Неоднократно обращался он к мысли написать свои комментарии к Корану или же начать кропотливую работу над собственным сборником изречений Пророка, снабженным обширными пояснениями, или сводом своих лучших проповедей, написанных элегантной прозой в полном соответствии с литературным этикетом Но даже предположение о том, что он станет поэтом, видимо, показалось бы ему невероятным. Как сам Джалаладдин откровенно высказал в одной из записанных бесед с учениками, занятие поэзией не пользовалось ни малейшим уважением в кругах духовенства в его родном Хорасане. Он говорил: "...пребывая в состоянии столь всепоглощающей любви, что, когда друзья приходили ко мне, я в страхе, что они могут помешать мне, творил и читал стихи, дабы этим увлечь их. А иначе для чего мне нужна была бы поэзия? Клянусь Аллахом, я никогда не питал к поэзии никакой склонности, и и моих глазах нет худшего занятия, чем она. [Но сейчас] она стала обязанностью, возложенной на меня [свыше]..." ("Фихи ма фихи", § 16).
Вскоре, его медресе становится центром наук, привлекая к себе ведущих философов того времени: Шемседдина Мардини (Semseddin-i Mardini), Кеди Сиреседдина Армеви(Kadi Siraceddin-i Urmevi) и Седреддина Коневи (Sadreddin-i Konevi). Руми, будучи уважаемым среди огромного числа ученых людей, собирал в мечети и обучал большое количество слушателей и студентов. Он стал уполномоченным султаната в вопросах юриспруденции и с его мнением считались все кассы общества. Именно в это время его проповеди были записаны и собраны в труде, состоящем из семи частей и известном под названием Mecalis-i Seb"a.
Сам же Джелал ад-дин оставался неудовлетворенным уровнем своих знаний и понимания. В нем проснулась страсть к мистицизму, пока еще скрытая от большинства его последователей. И эта страсть требовала выхода и надлежащих средств выражения, чтобы, вырвавшись на свободу, охватить всю вселенную.
И вот, 26 ноября 1244 года Руми встречается с Шамсом Тебризи.
Шамседдин раскрыл таившиеся в Джалал ад-дине неведомые дотоле ему самому силы, придавленные тройным гнетом - авторитетом отца, книжной ученостью и суфийским самосовершенствованием под началом Сеида Тайновидца. Эти силы оказались настолько могучими, что не иссякли, а, напротив, обрели взрывную мощь. Шамседдин первым увидел эти силы и "приоткрыл крышку". И тогда на весь мир зазвучал голос бубна в сердце Джалал ад-дина. Слезы и стенания сменялись гимнами радости быть на Земле человеком, гордостью за человека, верой в его величие и всемогущество. Здравым смыслом простолюдина Шамседдин понял, как многим ученым мужам книги заслонили окно в мир! Живую жизнь облекли они в саван мертвых догм. И поэтому, увидев его с книгой отцовских поучений, кричал он, как одержимый: "Не читай! Не читай!"
Шамседдин упорно отвращал его взор от созерцания месяца, отраженного в тазу, указывая на месяц в небе.
Джалал ад-дин отказался от всего. Фетвы и диспуты были заброшены. Теперь молитвы и проповеди сменились стихами и музыкой, притеснения плоти - песнями и плясками. Джалал ад-дин в любой момент, даже самый неподходящий, мог неожиданно для себя начать танцевать и декламировать стихи, которые струились из него.
Однажды, проходя по базару, он услышал тонкий мелодичный перезвон. То били молоточки золотых дел мастеров. От этого ритмичного малинового перезвона родилась тихая радость, она ширилась и росла, пока не захватила его всего без остатка. Он остановился, прислушиваясь. Рука потянулась к подолу, другая взлетела вверх. Он сделал шаг, склонил голову к правому плечу и медленно, а потом все быстрее и быстрее, закружился в пляске посреди пыльной многолюдной улицы, а из уст его полились стихи:
Эй, листок, расскажи, где ты силу нашел,
как ты ветку прорвал,
из тюрьмы своей вышел на свет?!
Расскажи, расскажи, чтоб мы тоже могли
из тюрьмы своей выйти на свет!
Эй, кипарис, ты растешь из земли,
но как гордо ты вскинулся ввысь!
Кто тебя научил, кто тебе показал?
Научи ты и нас, как ты тянешься ввысь!
Золотых дел мастер Саляхаддин был другом поэта. Когда он увидел кружившегося в пляске Джалал ад-дина, он понял, что именно звон их молоточков, доносившийся из мастерской, привел поэта в экстаз.
- Бейте! Бейте сильнее! - приказал мастер Саляхаддин. Ноги сами подняли старого мастера и понесли на улицу: "Бейте! Не останавливайтесь! Бейте!" Они закружились вместе, в одном ритме, с одним и тем же самозабвением, с чувством полного слияния с миром. Стихи рождались сами собой:
Эй, бутон, весь окрасившись в кровь, вышел ты из себя!
Расскажи нам, бутон, что такое любовь?
Из себя выходить научи!
Саляхаддин был стар. Не в силах продолжать пляску, он вскоре остановился с поклоном и попросил прощения у поэта за свою немощь. Тот обнял его за плечи, поцеловал, и продолжал плясать один, читая:
Забил родник неистощимых кладов.
Из мастерской, где золото куют.
Как смысл велик, как ясен лик!
Как сердце счастливо, как радо!
В тот же вечер Саляхаддин, подарив свою мастерскую общине, ушел вместе с поэтом, чтобы больше не расставаться с ним до самой своей смерти. Десятьлет поэт был неразлучен с Саляхаддином. Он увековечил его имя более, чем в семидесяти газелях. Старый мастер вышел из народа. Он был воплощением его здравого смысла и чуткости к Истине.
Однажды, собрав своих друзей и последователей, Джалал ад-дин сказал:
- Быть шейхом не по мне. Отныне и впредь слушайтесь Саляхаддина, следуйте за ним.
К вельможам и эмирам поэт не благоволил, но охотно беседовал с их женами. Жена вельможи Эминеддина Микаэла собирала по вечерам женщин, которые, к ужасу правоверных улемов, плясали, пели, слушали стихи поэта, осыпали его розами. Среди этих женщин была и царевна Гумедж-Хатун, дочь султана Гияседдина и грузинской царевны Тамар. Когда ей пришлось отправиться к мужу во вторую столицу державы город Кайсери, Гумедж-Хатун заказала портрет Джалал ад-дин, чтобы, когда невыносима станет разлука, она могла видеть его лицо. Выполнить заказ царевна поручила выдающемуся художнику.
"Что ж, прекрасно, если у него получится" - сказал Джалал ад-дин.
Двадцать холстов нарисовал художник. И все, по его мнению, были неудачными. Слезы отчаяния появились у него на глазах. Джалал ад-дин утешил его стихами:
Если б себя мне увидеть! Но нет!
Смешение красок, дает белый свет!
Дух мой не знает покоя,
Но как я спокоен в душе.
Море во мне потонуло, но чудо!
Бескрайнее море во мне...
Одна из учениц поэта стала даже настоятельницей женской дервишской обители в городе Токате.
Защищенный народной любовью, Джалал ад-дин мог теперь даже в лицо султанам говорить то, что думал. Когда к нему в медресе пожаловал в сопровождении свиты султан Иззеддин Кей Кавус 2-ой, поэт усадил гостей и, как ни в чем не бывало, продолжал беседовать с друзьями.
Просидев какое-то время среди плотников, цирюльников, кожевенных дел мастеров, султан почувствовал себя униженным и произнес:
- Да соблаговолит его святейшество осчастливить нас наставлением своим!
- Какое я могу дать тебе наставление? - ответил поэт.- Тебе положено быть пастырем, а ты обратился в волка. Тебе доверено охранять, а ты обратился к грабежу. Бог сделал тебя султаном, а ты поступаешь по наущению дьявола!
Султан вел борьбу со своим братом. Отповедь поэта означала, что город, братство ахов, ремесленники были против него. И действительно, вскоре участь Иззеддина была решена. На трон сел его брат.
Слово Джалал ад-дина стало деянием. Он говорил: "Я превращаю глину в жемчуга и бубны музыкантов наполняю златом. Всех жаждущих пою вином, иссохшие поля нектаром орошаю. Всю землю превращаю в рай, на трон султанский страждущих сажаю и воздвигаю помосты из тысяч виселиц".
Он сложил тысячи стихов. Его слово проникало до самых далеких окраин мира. И со всех концов - из Бухары и Тебриза, Каира и Йемена, Дамасска и Кордовы - потянулись к нему люди, как к светочу, озарившему кромешную ночь монгольского ига и дикости крестоносцев.
Он стал народным поэтом и поэтом всего человечества. Его стихи переведены почти на все языки мира. Дело его жизни было завершено. Тело, почти семьдесят лет не знавшее отдыха, уже плохо слушалось его. Несколько дней Джалалидцин Руми уже не вставал. В среду утром горожане проснулись от глухого раскатистого гула. Дома заходили ходуном. Люди в панике выбежали во дворы, на улицы. Днем последовало еще два подземных толчка. Кое-где обвалились дувалы, в кварталах бедноты погибли люди.
Вечером шесть старейшин ахи пришли проведать больного; люди мастеровые, практичные явились не без тайной мысли. Давно уверовали они, что поэту ведомо все происходящее на небе, на земле и под землей, и хотели узнать, чего ожидать от землетрясения, на что надеяться и как быть.
Джалал ад-дин понял их, поблагодарив за пожелания здоровья, и сказал, медленно переводя дыхание:
- Трясения земли не страшитесь! Несчастная земля наша требует жирного куска. - Он улыбнулся и приложил ладони к своей впалой груди. - Надо предать его земле. И она успокоится...
В тот день, когда умру, вы не заламывайте руки.
Не плачьте, не твердите о разлуке!
То не разлуки, а свиданья день.
Светило закатилось, но взойдет.
Зерно упало в землю - прорастет!
На рассвете город огласился воплями глашатаев: "Сал-я-я!.. Сал-я-я! Сал-я-я!"
Во многих домах, караван сараях, обителях и медресе Коньи не спали той ночью, ожидая сигнала к последнему прощанию. И когда этот сигнал прозвучал, тысячные толпы высыпали на улицы города. Женщины, дети, братья ахи, старейшины, подмастерья, байская челядь, дворцовые слуги, купцы, крестьяне окрестных деревень, босоногие, с непокрытыми головами - каждый хотел подставить плечо под носилки, накрытые той самой лиловой ферадже, по которой в городе за сорок с лишним лет привыкли узнавать Джалал ад-дина Руми. По обычаю, перед процессией гнали восемь волов, чтобы принести их в жертву над могилой, а мясо раздать беднякам.
Когда процессия вышла на главную улицу, толпа стиснула ее со всех сторон. Тюрки и хорасанцы, греки и армяне, православные христиане и иудеи - все пришли попрощаться с поэтом, каждый по своему обычаю.
Султан Перване стоял на пригорке у дворцовых ворот. Стража, обнажив сабли, принялась избивать и разгонять людей. Все смешалось: молитвы и рыдания, крики боли, музыка и яростные вопли. То была первая попытка отделить поэта от народа. И неизвестно, чем бы все кончилось, если б погребальные носилки не выпали из рук на землю. При виде расколовшихся досок и белого савана толпа в благоговейном ужасе оцепенела.
Султан Перване сурово наблюдал за происходящим. К нему подбежал один придворный и, склонившись в три погибели,проговорил:
- О всемилостливый властитель, падишах эмиров! Столпы веры спрашивают тебя: "Что надобно христианам и иудеям среди правоверных, хоронящих своего шейха? Повели им убраться прочь, дабы мы могли отдать последние почести рабу Аллаха Джалал ад-дину".
- Ты прав, факих! - кивнул ему Перване. И, повелев призвать к нему иудейских и христианских священнослужителей, приказал им увести прочь своих единоверцев.
- О повелитель милостивых! - ответил настоятель православного собора отец Стефаний. - Как солнце освещает своим светом весь мир, так и Руми освятил светом Истины все человечество. Солнце же принадлежит всем. Разве не сам он сказал: "От меня узнают о тайне семьдесят два народа". Если бы мы и приказали верующим уйти, они нас все равно бы не послушали.
- Он как хлеб, - подхватил глава иудеев раввин Хайаффа. - А хлеб нужен всем!
Перване осталось только развести руками. Погребальные носилки подняли на плечи. Снова зазвучали стихи, молитвы, музыка. И снова под напором толпы остановилась процессия. Опять пошли в ход дубинки и сабли. И опять упали на землю носилки. Четырежды избивали людей стражники. И четырежды падали носилки, и ремесленных дел мастера, верная опора поэта, чинили его последний экипаж.
Рядом с надгробиями Султана улемов и золотых дел мастера Саляхаддина вырос еще один холмик. Отсюда, с холма, хорошо виден город с его минаретами и зелеными куполами мечетей. Зеленоватый купол Куббе-и-Хазра воздвигнут над могилой Джалал ад-дина Руми два с половиной века спустя.
В просторном внутреннем дворике неустанно журчит вода. И неиссякаемым потоком с утра до вечера идут люди, до 16 тысяч человек вдень. Семь столетий прошло, а люди все идут и идут!
Афоризмы, цитаты, высказывания Руми:
Любовь - астролябия истины.
Умри, прежде чем умер. Родись пока еще жив.
Повторять чужие слова не значит еще понять их смысл.
Когда болвана учат мудрецы, они посев бросают в солонцы.
Да поразит возмездие бедой тех, кто за дружбу заплатит враждой.
Дружите с умными, ибо друг дурак порой опаснее, чем умный враг.
И зноем дня не будет опален тот, кто в терпенье гордом закален.
Эта земля не прах, она - сосуд, полный крови, крови влюбленных.
И как ни штопай - шире, чем вчера, назавтра будет глупости дыра.
Тело – наша завеса в этом мире: мы – как море, скрытое под соломинкой.
Без твоих речей у души не было бы ушей, без твоих ушей у души не было бы языка.
Не ищите после смерти могилу нашу в земле - ищите ее в сердцах просвещенных людей.
В зеркале, как известно, все наоборот. Но без него мы никогда не увидели самих себя.
Будучи драгоценной шелковой тканью, человек превратился в заплатку на обветшавшей одежде.
Едва спросил аллах людей: «Не я ли ваш господь?» – я вмиг постиг его закон! Я уж давно влюблен.
О человек, ты не ведаешь ценности своей собственной души, поскольку по Своей щедрости Аллах дал ее тебе без платы.
Только когда человек оказывается лишенным внешнего бытия, подобно зиме, есть надежда, что в нем зародится новая весна.
В человеке любви может быть и плохое, и хорошее. Ты же не смотри на это, ты зри в корень - и увидишь свет, идущий от тебя.
Любовь должна быть тем, что нас бы наслаждало. Любовь нам радости без счета может дать. Я в матери-любви обрел начало. Благословенна будь навеки эта мать.
На бойне любви убивают лишь лучших, Не слабых, уродливых и невезучих. Не надо бояться подобной кончины. Убит не любовью? Знать, жил мертвечиной!
Ты ищешь удовольствий в сладостном – что за нелепость! Ведь ты - море постижений, скрытое в капле росы, ты – Вселенная, таящаяся в теле длиной в полтора метра.
Коль мироздания секрет себя б явил на время вздоха, ты б осознал сей жизни бред, себя убив в мгновенье ока. Но пьян собою, в вечной тьме, ты обречён дремать до срока, пока в разрушенной корчме не пробудит вино пророка.
Мавлана Джалал ад-Ди́н Мухаммад Руми (перс. محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی; 30 сентября 1207, Балх, Государство Хорезмшахов - 17 декабря 1273, Конья, Конийский султанат), известный обычно как Руми или Мевляна - выдающийся персидский и таджикский поэт-суфий. Иногда его называли также Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи (перс. محمد بلخى), по названию города Балха, откуда он родом.
Глухой посещает больного
Корят глухого: «Ты пойди проведай
Хоть раз больного своего соседа!»
Глухой пошел к больному, но в тревоге
Остановился все же на пороге:
«Я глух, трудна беседа мне… Но, впрочем,
Напрасно я всем этим озабочен:
Что молвит он, что мне сказать ему -
Я это все по мимике пойму.
Но, чтоб исхода не было плохого,
Сперва продумать надо всё до слова.
Вот я войду, спрошу: „Ну, как дела?“
А он: „Мне лучше, боль почти прошла“.
А я ему в ответ: „И слава Богу,
Пускай совсем уходит понемногу!“
„Что ешь ты?“ - вопрошу. Он скажет: „Рис“.
„Отличное питанье, ободрись! -
Скажу я. - „А кого ж из лекарей
Ты звал, чтобы с постели встать скорей?“
Он назовет кого-то из врачей,
А я ему: „Сколь славен доктор сей!
Лечиться у него всего полезней:
Он навсегда избавит от болезни!“»
И вот глухой к соседу входит в дом,
И, хоть и видит - нет лица на нем,
Но вопрошает бодро: «Как дела?»
А тот: «Ужасно, жизнь почти ушла».
Глухой в ответ: «Отлично, слава Богу,
Пускай совсем уходит понемногу!»
Шепнул больной: «Не думал я никак,
Что мне сосед ближайший - лютый враг!»
«А что ты ешь?» - спросил глухой. - «Отраву», -
Больной в ответ. - «Питание на славу!
Почаще ешь!» - «Сколь сердцем он суров!» -
Подумал тот. - «А кто из докторов
К тебе приходит?» - «О сосед, помилуй,
Уймись - я завтра породнюсь с могилой,
Уж Ангел смерти ждет души моей!»
Глухой в ответ: «Он лучший из врачей!
Войдет он - не останется и духа
От твоего несносного недуга!»
Ушел глухой, и умилен и рад,
И от Аллаха ждал себе наград:
«Я принял в муках ближнего участье
И видел сам, как плакал он от счастья!»
Меж тем и впрямь рыдал больной сосед,
В то утро испытав беду из бед:
«Пусть Бог того настигнет тяжкой дланью,
Кто радовался моему страданью!» -
Шептал он. А растроганный глухой,
Исполнив долг, обрел в душе покой…
Чтоб стал твой мир прозрачен и лучист,
Ты сердце, словно зеркало, очисть!
Раздвинь завесу плотского ума –
И воссияет Истина сама.
Чтобы в сердце, как в зерцале, отразился Божий Лик,
С сердца ржавчину сотрите мелких, низменных забот!
Любому, кто терпит любовные муки,
Понятно и близко страданье разлуки.
О сердце, воскресни, ведь смерть - не вдали:
Влюбись – и любовью себя исцели!
Любовь без врачебного лечит канона,
Она Соломона мудрей, и даже Платона.
Пусть сердце поет, как влюбленная птица,
Иначе твой друг, от тебя отвратится.
*****
О слышащий, внемли: лишь Божий Дух
Нам отверзает зрение и слух.
Но кто одной корыстью жив и дышит, -
Тот слеп и глух, не видит и не слышит.
А кто не слышит вышнего веленья,
Тому не шлет Создатель исцеленья!
*****
Кто к смраду приучил свое дыханье,
Тому смертельный яд - благоуханье!
Кто Правды отвергает аромат,
Того судьба - вдыхать безумья смрад!
*****
О муж, не спи, будь бдителен и строг
К своей душе! Не упусти свой срок!
Коль повлекут тебя на Страшный суд,
Тебя в тот час молитвы не спасут!
*****
Добыть еду - немалый нужен труд,
И лишь за слезы денег не берут!
*****
Пойми, не напрасны слова мудрецов,
Что горе приносит усердье глупцов.
*****
В несчастьях человек дает обеты:
«Клянусь, мол, совершить и то, и это…»
Но чуть минует ряд событий злых -
О клятвах забывает он былых!
*****
Нам разум и силу Творец даровал,
Чтоб каждый трудом себе хлеб добывал,
А кто не желает трудиться, пусть тот
От Бога даров благодатных не ждет!
*****
А кто недоволен своею судьбой,
Тот зол и не может жить в мире с собой!
*****
Нам сила терпенья от Бога дана,
Но клонит к поспешности нас сатана!
*****
Ты хочешь понять, в чем великий секрет
Твоих неудач, и болезней, и бед?
Для злой твоей воли обилье невзгод -
Спасительный хлад, усыпляющий лед!
Ты буйством страстей свою душу не грей,
Пусть спит, леденея, прожорливый змей!
Ты сердце соблазнами в грех не вводи,
Дракона застывшего не разбуди!
Проснется - тебе его не усыпить,
Напрасно ты станешь молить и вопить!
*****
Единство душ, конечно, - дар чудесный,
Знак благодати, милости небесной.
И я тебе напомнить вновь хочу:
Лишь с тем дружи, с кем дружба по плечу!
*****
Кормили бедных вы? Не верю! -
Кормили вы свое высокомерье!
Когда куском вы с нищими делились,
То друг пред другом щедростью хвалились!
*****
Кто судит ближнего в надменье строгом,
Тот тяжкий грех свершает перед Богом.
Лишь тот прощен и принят свыше будет,
Кто не другого, а себя осудит.
Ты не познал себя? Как это жаль!
Но что ж другим читаешь ты мораль?
*****
И мы порой умом недалеки,
Соблазны плоти нас влекут в силки.
Да, плоть сильна! Лишь редкостная птица
Влеченьем чувственным не обольстится -
И станет жить, смиряя страсти в теле,
Чтобы достичь духовной, высшей цели.
Но не спасет и мудрый Соломон
От той ловушки, что в тебе самом!
Ты мнишь себя судьбы своей владыкой,
А сам - в рабах у страсти злой и дикой.
Но настоящий властелин - лишь тот,
Кто над своим желаньем власть берет:
Сверкает Божий луч в его уме!
А остальные - узники в тюрьме.
*****
Когда ты стезей подражанья идешь -
Свой собственный путь у себя ты крадешь!
*****
Зов плоти многих суфиев прельщает:
Свет знанья живота не насыщает.
О друг мой! Душе, кроме ясного взгляда,
Другого помощника в жизни не надо.
Слепому же сердцем, чтоб мирно пройти,
Пусть разум, как посох, послужит в пути.
Коль посох в бессилье роняет рука, -
Куда ж ты, незрячий, без проводника?!
*****
Ведь мы - не слоны, а потомство Адама,
Должны проверять предсказанья всегда мы,
Чтоб с помощью трюка любой лжепророк
За правду нам выдумку выдать не смог!
*****
Все так случилось, как сказал Пророк:
«Кто счел себя больным - тот занемог!»
*****
Тому, кем вдохновенье овладело, -
Плевать на боль: он продолжает дело!
*****
Совсем не каждый, кто имеет крылья,
Как сокол, ввысь взлетает без усилья,
А потому и каждому жилье
От Бога предназначено свое.
Корзина песка
На рослом верблюде один бедуин
Вез пару огромных и полных корзин.
В дороге он странника встретил, и тот
Спросил, что за ношу с собой он везет.
Наездник сказал: «На боку на одном
Верблюд перевозит корзину с зерном,
А для равновесия вздумалось мне
Корзину с песком на другой стороне
Привесить ему». - Но прохожий изрек:
«Из этой корзины ты высыпь песок,
В нее пересыпь половину зерна,
И ноша твоя будет облегчена,
И сам ты спасешься от лишних забот,
И вдвое быстрее верблюд твой дойдет».
А тот: «Я умом твоим так восхищен!
Я мудрым вниманьем твоим так польщен!
Но что ж ты пешком совершаешь свой путь?
Садись на верблюда! Еще что-нибудь
Поведай, раскрой своей мудрости ширь!
Ты, верно, правитель? Иль, может, визирь?»
А тот: «Посмотри на мой старый халат:
Ужель на правителе столько заплат?!»
Ему бедуин: «Что ж, спрошу я спроста:
А сколько отар ты имеешь скота?»
А тот: «От вопросов твоих я устал:
Овцы не имею, не то что отар!»
Тогда бедуин: «Ну скажи, наконец,
Всю правду: что ты - знаменитый купец,
И мне опиши свой прекрасный товар!»
А тот: «Да я отроду не торговал!»
Сказал бедуин: «В самом деле? Ну что ж,
Наверно, из меди ты золото льешь,
Как льется твоя драгоценная речь?
Ты - маг знаменитый, и мне не перечь!»
Но путник ответил: «Я жалок и нищ,
И хлеба прошу близ богатых жилищ:
В награду за мудрость я век голодал,
И всюду скитался, и много страдал».
Вскричал бедуин: «Так зачем же ты тут?
Пусть больше не носит тебя мой верблюд:
Ты мудростью ложной, пока здесь сидишь,
И долей несчастной меня наградишь!
От жизни своей отведу я беду:
Направо иди - я налево пойду.
И пусть остается в корзине песок:
О да, я глупец, но мой жребий высок,
Ведь Бог меня глупостью сей наградил,
Чтоб в сытости я свои дни проводил!..»
…Не думай, что мудрость твоя велика:
В корзине души еще много песка!..
Борода
Спросили прихожане: «О мулла,
Всегда ль была брада твоя бела?»
Он отвечал: «Она была черна,
Но побелела с возрастом она».
А те ему: «Коль многие года
Тебя сопровождала борода,
Что ж не белело, глядя на нее,
С ней вместе сердце черное твое?!»
*****
Лишь деспот злой, не сдерживая речь,
Весь мир готов случайным словом сжечь.
Поберегись! Несет словесный дар
Одним - спасенье, а другим - удар
*****
Стреле подобно слово: полетит -
Раскаянье его не возвратит!
Речь - как плотина: коль прорвет ее -
Никчемно сожаление твое!
*****
Кто думать перед речью не привык,
Тому, конечно, главный враг - язык.
Свободен мыслью - ходит он в рабах
У быстрых слов на собственных губах.
*****
Терпение приобретается шаг за шагом -
Через отдельные мысли, слова и поступки.
*****
К тому, чтобы понять хоть что-нибудь,
Терпенье сердца - наилучший путь.
*****
Коль Бог захочет, коль позволит рок,
Из бед чужих ты извлечешь урок.
*****
Коль ищешь суть, на внешность не смотри,
Но разгадать старайся, что внутри!
*****
Мы вечно суетимся, убегаем,
И тем спастись и скрыться полагаем, -
Но от кого? Задумайся на миг:
От Бога? Или от себя самих?
*****
Пусть кубок и красив, но мы то пьем
Не красоту его, а то, что в нем.
Исчезнет красота когда нибудь,
Бессмертна только внутренняя суть.
Стареет плоть, к небытию спеша,
Но вечно обновляется душа.
С ракушкой схож души сокрытый дом,
Но не во всякой жемчуг мы найдем.
*****
Чтоб стал твой мир прозрачен и лучист -
Ты сердце, словно зеркало, очисть!
*****
Нас единит не близость расстоянья,
А цель души и сердца состоянье.
*****
Ночной ли мрак, или умов затменье
Мешают нам сойтись в едином мненье?
*****
Не слишком сетуй, потеряв что-либо,
Ведь без потерь и жить мы не могли бы.
Подумай - чем ты менее богат,
Тем меньше и грозит тебе утрат.
Немного я встречал таких, признаться,
Кого б счастливым сделало богатство!
*****
Глупцу доступен только внешний вид,
Но мудрый - сквозь покровы внутрь зрит:
Кто побеждает плоти тяжкий плен,
Тот душу видит, волен и блажен!
*****
Одного вам понять не дано:
Лик милой - кувшин, ее прелесть - вино.
Любовный напиток, святое питье
Мне Бог наливает из лика ее.
О любви
Любовь из медяка чеканит золотой
И претворяет яд в целительный настой,
И силы от любви пробудятся в больном,
И уксус от любви взыграет, став вином.
Тому, кто полюбил, тюрьма - как светлый рай,
Тому, кто разлюбил, как цепи - вольный край.
Сменив на милость гнев и правду возлюбив,
Посланником добра предстанет страшный див.
Скорбь станет от любви счастливым торжеством,
Храбрея от любви, мышь обернется львом.
А грозный царь, любви сиянием влеком,
Вокруг свечи кружит кротчайшим мотыльком.
И, ведая, что все дает любимый Друг,
Ты примешь полноту и радостей, и мук.
Ищу Человека
Средь яркого полдня затеплив свечу,
Отшельник бродил: «Человека ищу!» -
Так он восклицал среди уличной давки,
Дворы обходя, и пекарни, и лавки.
И встречный спросил: «Как понять тебя, друг?
Сам видишь - людей сколько хочешь вокруг,
Людей в нашем городе больше, чем надо!»
Отшельник в ответ: «То не люди, а стадо!
Лишь тот, кто стремится любовь проявлять,
Лишь тот, кто умеет свой гнев подавлять,
Вот он - Человек! Лишь его я ищу,
Такому - я сердце свое посвящу!»
*****
Чтоб на земле кому-то послужить,
Душой для Бога должен ты ожить!
*****
Наш ум убог, а Истина бездонна,
И как постичь нам мудрость Соломона?
Коль есть в глазу соринка хоть одна,
То - скрыто Солнце, не видна Луна.
Раздвинь завесу плотского ума -
И воссияет Истина сама!
*****
Огонь, как поцелуй, едва свечи коснется -
И сразу в ней самой и свет и жар проснется.